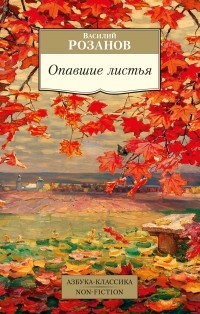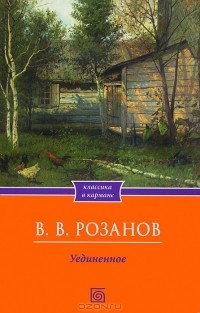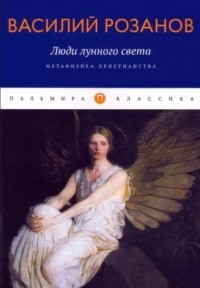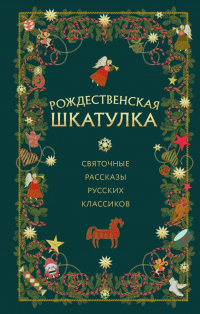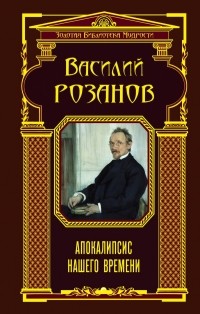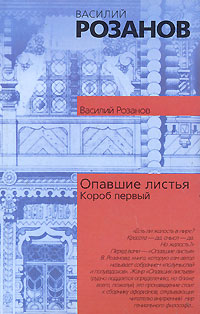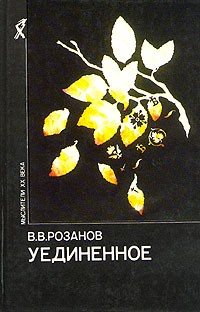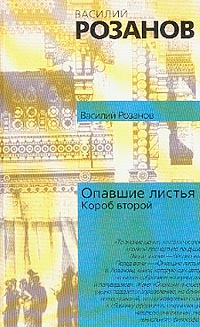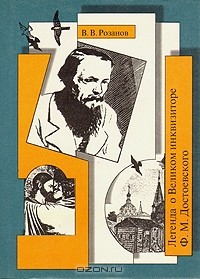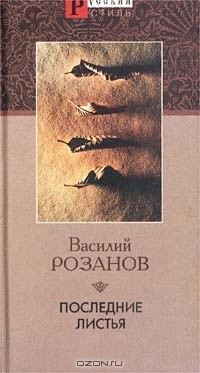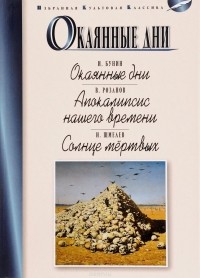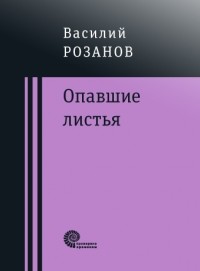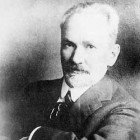
Василий Розанов — о поэте
- Родился: 20 апреля 1856 г. , Ветлуга
- Умер: 5 февраля 1919 г. , Сергиев Посад
Биография — Василий Розанов
Василий Васильевич Розанов - русский религиозный философ, литературный критик и публицист, один из самых противоречивых русских философов XX века. Первый религиозный переводчик (части) Метафизики Аристотеля на русский язык.
Окончил курс в Московском университете по филологическому факультету, был учителем истории и географии в брянской прогимназии, елецкой гимназии и бельской прогимназии; с 1893 года служит в центральном управлении государственного контроля.
Неудовлетворенный схемой университетских дисциплин, лишенных цельности и последовательности, Р. в обширном труде "О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания" (Москва, 1886) дает план…
возможного понимания или познания мира, определенный изучением первоначального строения ума, которому соответствует строение мира. Все познаваемое распределено в понимании, содержится в его формах, но только еще закрытое, непознанное; понимание завершает деятельность разума и дает ему успокоение.
Всестороннюю критику утилитаризма Р. дал в статье "Цель человеческой жизни" ("Вопросы философии", 1892, кн. 14 и 15); эстетические воззрения Р. изложены в книге "Красота в природе и ее смысл" (Москва, 1894), написанной по поводу взглядов Вл. С. Соловьева .
Гораздо больше внимания Р. посвятил философии истории, в связи с запросами и требованиями современности. ("Религия и культура", сборник статей, Санкт-Петербург, 1899). Выступив на это поприще статьей "Место христианства в истории" ("Русский Вестник", 1890, 1 и отд.), Р. обнаружил довольно определенную славянофильскую окраску в духе К.Н. Леонтьева и, наконец, выступил решительным противником некоторых основных идей догматики. Статьи Р. о браке (1898) были поворотным пунктом в этом отношении. Много было сказано здесь такого, что повергало в неподдельное изумление как единомышленников, так и противников Р. (по его мнению, например, день Ходынской катастрофы есть вместе с тем и счастливый день русской истории).
Нельзя не признать, однако, что встречающееся у Розанова своеобразное освещение исторических событий будит мысль неожиданными параллелями и взглядами. То же самое следует сказать и о статьях его педагогического содержания, собранных в книге "Сумерки просвещения" (Санкт-Петербург, 1899). Критикуя современный строй школы и воспитания, Р. находит, что во всех борющихся системах воспитания нарушены три принципа образования: принцип индивидуальности, требующий, чтобы как в образуемом, так и в образующем была сохранена индивидуальность; принцип целости, требующий, чтобы всякое входящее в душу впечатление не прерывалось до тех пор другими впечатлениями, пока оно не окончило своего взаимодействия с ней; наконец, принцип единства, состоящий в требовании, чтобы образующие впечатления были все одного типа.
В своих, порой блестящих и всегда крайне парадоксальных, критических статьях Р. занимался почти исключительно Достоевским и Гоголем : "Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского, с присоединением двух этюдов о Гоголе" (Санкт-Петербург, 1893) и "Литературные очерки", сборник статей (Санкт-Петербург, 1899). О Р. существует много полемических отзывов, из которых наиболее известна статья Вл. С. Соловьева "Порфирий Головлев о свободе и вере" ("Вестник Европы", 1894 год, 2). Его новейшие труды: "В мире неясного и нерешенного" (СПб., 1901), "Природа и история. Сборник статей" (ib., 1900), "Семейный вопрос в России" (ib., 1903).
Творчество и взгляды Розанова вызывают очень противоречивые оценки. Это объясняется его нарочитым тяготением к крайностям, и характерною амбивалентностью его мышления. «На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения. Это „координаты действительности“, и действительность только через 1000 и улавливается». Такая «теория познания» действительно демонстрировала необычайные возможности специфически его, розановского, видения мира. Примером данного подхода может служить то, что революционные события 1905—1907 Розанов считал не только возможным, но и необходимым освещать с различных позиций — выступая в «Новом времени» под своей фамилией как монархист и черносотенец, он под псевдонимом В. Варварин выражал в других изданиях леволиберальную, народническую, а порой и социал-демократическую точку зрения.
«Духовной» родиной для Розанова был Симбирск. Свою отроческую жизнь здесь он описал ярко, с большой памятью о событиях и тончайших движениях души. Биография Розанова стоит на трех основах. Это его три родины: «физическая» (Кострома), «духовная» (Симбирск) и, позднее, «нравственная» (Елец). В литературу Розанов вошёл уже сформировавшейся личностью. Его более чем тридцатилетний путь в литературе (1886—1918) был беспрерывным и постепенным разворачиванием таланта и выявлением гения. Розанов менял темы, менял даже проблематику, но личность творца оставалась неущербной.
Условия его жизни (а они были не легче, чем у его знаменитого волжского земляка Максима Горького), нигилистическое воспитание и страстное юношеское желание общественного служения готовили Розанову путь деятеля демократической направленности. Он мог бы стать одним из выразителей социального протеста. Однако юношеский «переворот» изменил его биографию коренным образом, и Розанов обрел свое историческое лицо в других духовных областях. Розанов становится комментатором. За исключением немногих книг («Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего времени») необъятное наследие Розанова, как правило, написано по поводу каких-либо явлений, событий.
Исследователи отмечают эгоцентризм Розанова. Первые издания книг «опавших листьев» Розанова — «Уединенное», а затем и «Опавшие листья», — вошедшие вскоре в золотой фонд русской литературы, были восприняты с недоумением и растерянностью. Ни одной положительной рецензии в печати, кроме бешеного отпора человеку, который на страницах напечатанной книги заявил: «Я ещё не такой подлец, чтобы думать о морали».
Розанов — один из русских писателей, счастливо познавших любовь читателей, неколебимую их преданность. Это видно из отзывов особенно чутких читателей «Уединенного», правда, высказанных интимно, в письмах. Примером может служить емкий отзыв М. О. Гершензона: «Удивительный Василий Васильевич, три часа назад я получил Вашу книгу, и вот уже прочел её. Такой другой нет на свете — чтобы так без оболочки трепетало сердце пред глазами, и слог такой же, не облекающий, а как бы не существующий, так что в нём, как в чистой воде, все видно. Это самая нужная Ваша книга, потому что, насколько Вы единственный, Вы целиком сказались в ней, и ещё потому, что она ключ ко всем Вашим писаниям и жизни. Бездна и беззаконность — вот что в ней; даже непостижимо, как это Вы сумели так совсем не надеть на себя системы, схемы, имели античное мужество остаться голо-душевным, каким мать родила, — и как у Вас хватило смелости в 20-м веке, где все ходят одетые в систему, в последовательность, в доказательность, рассказать вслух и публично свою наготу. Конечно, в сущности все голы, но частью не знают этого сами и уж во всяком случае наружу прикрывают себя. Да без этого и жить нельзя было бы; если бы все захотели жить, как они есть, житья не стало бы. Но Вы не как все, Вы действительно имеете право быть совсем самим собою; я и до этой книги знал это, и потому никогда не мерял Вас аршином морали или последовательности, и потому „прощая“, если можно сказать тут это слово, Вам Ваши дурные для меня писания просто не вменял: стихия, а закон стихий — беззаконие».
Философия Розанова является частью общего русского литературно-философского круга, однако особенности его существования в этом контексте выделяют его фигуру и позволяют говорить о нём как о нетипичном его представителе. Находясь в центре развития российской общественной мысли начала 20 в., Розанов вел активный диалог со многими философами, писателями, поэтами, критиками. Многие из его работ были идейной, содержательной реакцией на отдельные суждения, мысли, работы Бердяева, В. С. Соловьёва, Блока, Мережковского и др. и содержали развернутую критику этих мнений с позиций его собственного мировоззрения. Проблемы, занимавшие мысли Розанова, связаны с морально-этическими, религиозно-идейными оппозициями — метафизика и христианство, эротика и метафизика, православие и нигилизм, этический нигилизм и апология семьи. В каждой из них Розанов искал пути к снятию противоречий, к такой схеме их взаимодействий, при которой отдельные части оппозиции становятся разными проявлениями одних и тех же проблем в существовании человека.
Интересна одна из интерпретаций философии Розанова, а именно как философии «маленького религиозного человека». Предметом его исследования становятся перипетии «маленького религиозного человека» наедине с религией, такое множество материала, указывающего на серьёзность вопросов веры, на их сложность. Грандиозностью задач, которые ставит перед Розановым религиозная жизнь его эпохи лишь отчасти связана с Церковью. Церковь не поддается критической оценке. Человек остается наедине с самим собой, минуя институты и установления, которые объединяют людей, дают им общие задачи. Когда так ставится вопрос, то проблема рождается сама собой, без дополнительного участия мыслителя. Религия по определению — объединение, собирание вместе и т. д. Однако понятие «индивидуальная религия» приводит к противоречию. Впрочем, если его истолковать таким образом, что в рамках своей индивидуальности религиозный человек ищет свой способ связи и объединения с другими, тогда все встает на нужные места, все приобретает смысл и потенциал для исследования. Именно его использует В. Розанов.
Исследователи отмечают необычный жанр сочинений Розанова, ускользающий от строгого определения, однако прочно вошедший в его журналистскую деятельность, предполагавший постоянную, как можно более непосредственную и вместе с тем выразительную реакцию на злобу дня, и сориентированный на настольную книгу Розанова «Дневник писателя» Достоевского. В опубликованных сочинениях «Уединенное» (1912), «Смертное» (1913), «Опавшие листья» (короб 1 — 1913; короб 2 — 1915) и предполагавшихся сборниках В «Сахарне», «После Сахарны», «Мимолетное» и «Последние листья» автор пытается воспроизвести процесс «понимания» во всей его интригующей и многосложной мелочности и живой мимике устной речи — процесс, слитый с обыденной жизнью и способствующий мыслительному самоопределению. Этот жанр оказался наиболее адекватным мысли Розанова, всегда стремившейся стать переживанием; и последнее его произведение, попытка осмыслить и тем самым как-то очеловечить революционное крушение истории России и его вселенский резонанс, обрела испытанную жанровую форму. Его «Апокалипсис нашего времени» публиковался невероятным по тому времени двухтысячным тиражом в большевистской России с ноября 1917 по октябрь 1918 (десять выпусков).
Воззрения и труды Розанова вызывали критику как со стороны революционных марксистов, так и либерального лагеря русской интеллигенции.
В 1917 году Розановы переехали из Петрограда в Сергиев Посад и поселились в трех комнатах дома ректора Свято-Троицкой семинарии (это жилье им подобрал философ о. Павел Флоренский). Перед кончиной Розанов открыто нищенствовал, голодал, в конце 1918 года обратился со страниц своего «Апокалипсиса» с трагической просьбой:
К читателю, если он друг. — В этот страшный, потрясающий год, от многих лиц, и знакомых, и вовсе неизвестных мне, я получил, по какой-то догадке сердца, помощь и денежную[5], и съестными продуктами. И не могу скрыть, что без таковой помощи я не мог бы, не сумел бы перебыть этот год. <…> За помощь — великая благодарность; и слезы не раз увлажняли глаза и душу. «Кто-то помнит, кто-то думает, кто-то догадался». <…> Устал. Не могу. 2—3 горсти муки, 2—3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц может часто спасти день мой. <…> Сохрани, читатель, своего писателя, и что-то завершающее мне брезжится в последних днях моей жизни. В. Р. Сергиев Посад, Московск. губ., Красюковка, Полевая ул., дом свящ. Беляева.
В. В. Розанов похоронен с северной стороны храма Гефсиманского Черниговского скита в Сергиевом Посаде.
Книги
Смотреть 238Библиография
Исследователи отмечают необычный жанр сочинений Розанова, ускользающий от строгого определения, однако прочно вошедший в его журналистскую деятельность, предполагавший постоянную, как можно более непосредственную и вместе с тем выразительную реакцию на злобу дня, и сориентированный на настольную книгу Розанова «Дневник писателя Достоевского». В опубликованных сочинениях Уединенное (1912), Смертное (1913), Опавшие листья (Короб первый— 1913; Короб второй — 1915) и предполагавшихся сборниках В Сахарна , «После Сахарны», «Мимолетное» и Последние листья автор пытается воспроизвести процесс «понимания» во всей его интригующей и многосложной мелочности и живой мимике устной речи —…
Ссылки
Рецензии
Смотреть 981 марта 2025 г. 12:27
859
4
Собирали ли вы листья, чтобы зимою, открывая книгу, увидеть полурассохшийся трупик растения? У меня бывало. Розановский сборник отчего-то мигом напомнил те чувства: только вместе листьев - мысли, мысли, много мыслей...
Я угадала с выбором книги, но немного ошиблась в этот раз со временем ее прочтения - осенью бы смотрелось куда атмосфернее...
Это действительно осенняя для меня книга. Для меня, не знатока философии, она запомнится прежде всего очень личным, тонким, лиричным повествованием об увядании, закате жизни, цивилизаций, упадке культуры (литературы особенно). Книга разочарований и пространного взгляда назад, в былое. Мало читаю поистине философских сочинений, но люблю мемуарный (дневниковый) жанр, так вот розановская книга разом сочетает в себе пометки по типу дневника (с его…
29 сентября 2023 г. 17:14
10K
2 Ворох опавших мыслей
Целая кипа разноформенных записей. И крохотные, как листочки барбариса, и широкосторонне-кленовые, и где-то изгибаются нежной дубовой волной, а вот тут остро щетинятся ветвью шиповника. Но настроение книги не осеннее. Нет. Все давно опало - и засыпалось-захоронилось тяжелым, угрюмым снегом.
Именно тяжесть - характерное описание сборника. Взгляды автора показались отчего-то мрачными, зимними, слякотно-ледянными. То и дело очередную мысль приходится выкапывать из припорошивших их ощущений пусоты и бессмысленности, страдания, ужаса перед смертью.
Темы размышлений оказались вне моих интересов. Все крутится вокруг религии, политики, евреев, какого-то странного оттолкновения от себя литературы и общественных норм морали. Из заинтересовавшего - о смерти и жизни, о человеческом.
Вначале…
Цитаты
Смотреть 1 056Лайфхаки
Смотреть 114 октября 2018 г.
634
Хорошо "вязать чулок свой жизни", и - не помышлять об остальном
Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни», и – не помышлять об остальном. Остальное – в «Судьбе»: и все равно там мы ничего не сделаем, а свое («чулок») испортим (через отвлечение внимания).
Истории
Смотреть 913 января 2024 г. 07:18
366
Пути небесные (пмц)
У жизни есть своя чеширская улыбка. Жизнь исчезает, а улыбка остаётся. Иногда это любовь, иногда письмо от любимого человека. Столько раз я в своих историях писал о лунатизме… У меня и правда лунатизм, но иной: в любви, судьбе, творчестве. И вот, дожил до классического лунатизма. Стал часто просыпаться среди ночи и осознавать, что я сижу в постели, свесив ноги на пол. Как если бы сидел над бездной. Сижу в темноте и говорю сам с собой. Или просто, тихо, снова и снова произношу милое имя любимой. Губы сами говорят. Губы лунатики. А может губы и не спали, а проснулись раньше. Я ведь так часто привык шептать имя любимой.. В такие моменты я не…
22 ноября 2023 г. 06:16
416
Влюблённые
- Луна взошла за окном.. Она с детства, напоминает мне купол храма. Есть храмы земные, а есть — небесные. Как и браки. Может поэтому я в детстве крестился на луну: мама крестилась на храм, когда мы проходили мимо, а я — на луну. Мама ласково улыбалась мне. Она сердцем понимала, что и самый мир — божий храм. Я тогда уже знал, что мужчина и женщина, если полюбят, венчаются в храме. Я толком не понимал в детстве этого слова, думал, что влюблённые стоят в храме, закрыв глаза, и с ними происходит что-то необычайное. Венчаются, качаются.. Может, они там качаются на качелях? Специальные венчальные качели, в храме, среди ангелов и дрожащей, золотой…