Опубликовано: 22 ноября 2022 г., 14:25
8K
Двести лет Стендалю

В 2022 году отмечается двухсотлетие с момента превращения владельца этого псевдонима из литературного дилетанта в одного из величайших романистов современности.
Двести лет назад родился (Stendhal). Ну, вроде того. К 1822 году Анри Бейль, человек, которого мы сейчас знаем как Стендаля, был лысым, толстым и ему было за 50. И даже псевдоним не тогда появился на свет. Бейль придумал его несколькими годами ранее, сплагиатив и неправильно написав — два фирменных знака Стендаля — название немецкого города Стендаль (Stendal), через который он проезжал, будучи двадцатилетним офицером наполеоновской армии. Почему Бейль остановился на Стендале, неясно. Это был всего лишь один из 200 или около того псевдонимов, которые он использовал в течение своей писательской жизни, от Анастазы де Серпьер и Барона Патаута до Старого Хаммуса и Уильяма Крокодайла.
С другой стороны, трудно представить себе Полиба Лав-Паффа (еще один псевдоним) в качестве автора Красного и черного . И что еще важнее, столь же трудно представить Стендаля без Наполеона Бонапарта. На следующий день после того, как 29-летний Буонапарте — так на самом деле звали уроженца Корсики — сверг революционный режим в 1799 году, 16-летний уроженец Гренобля приехал в Париж, чтобы продолжить учебу. С этого момента жизни двух амбициозных провинциалов переплелись.
Причем переплелись настолько, что когда в 1815 году Бонапарт «выиграл» билет в один конец на остров Святой Елены, не сумев спасти свою империю при Ватерлоо, Бейль заметил: «Я пал вместе с Наполеоном». Но это было недолго. В июне 1821 года, после нескольких лет изгнания в своем любимом Милане, Бейль вернулся в Париж. Так же как наполеоновский переворот подготовил почву для приезда Стендаля, смерть Наполеона опередила его возвращение в город всего на несколько дней.
Конечно, случайность. Но такая, которая встречается в его романах и указывает на более важные истины. Как и его кумир, Стендаль соединил рационализм эпохи Просвещения и революционный романтизм. Он стал, по сути, Наполеоном от литературы, опрокинув не континент, а традиции художественной литературы. Действительно, художественной литературы. В конце своей жизни Наполеон заявил: «Моя жизнь была романом!». Стендаль мог бы сказать: «Мои романы стали моей жизнью!» Однако, в отличие от Наполеона, Стендаль нашел в писательстве не только свое призвание, но и свое «я».
* * *
После первой реставрации Бурбонов в 1814 году Стендаль искал пути спасения. Хотя правительственные шпионы отслеживали его передвижения, его жизни ничего не угрожало. Но его рассудок был под угрозой. Реакционный двор Бурбонов, который Стендаль называл «отбросами земли», высасывал воздух из Парижа. Как замечает рассказчик в романе Красное и черное , «пока не шутили о Боге, священниках и королях... пока не говорили ничего в пользу Вольтера или Руссо и, главное, пока не говорили о политике, можно было обсуждать все совершенно свободно».
В следующем году Стендаль бежал из Парижа в Милан, где он твердо решил завоевать репутацию писателя. Семь лет, которые он прожил там, оказали чудесное влияние на его любовь к опере, но гораздо меньше на его ожидания литературной славы. Стендаль оставался незначительной литературной фигурой, более известной в миланских салонах, чем в парижских книжных магазинах. Он сделал себе имя или, скорее, псевдоним, написав вычурные биографии и увлекательные путевые заметки. Однако к 1822 году потеря Милана (местные австрийские власти подозревали Стендаля в связях с националистами-карбонариями), потеря Наполеона (который разжег итальянский национализм) и потеря надежды завоевать сердце Метильды Дембовски (миланской красавицы, которую также подозревали в связях с карбонариями) привели к окончательной кристаллизации его литературных амбиций.
Слово «кристаллизация» Стендаль ввел в обиход в О любви , своей первой настоящей книге, опубликованной вскоре после его возвращения в Париж в 1822 году. Находясь под сильным впечатлением от этого понятия, он провозгласил момент, когда он его придумал, «Днем гения». Он был прав. Понятие кристаллизации у Стендаля оказалось таким же долговечным, как, скажем, описания Сократа и Аристофана в «Симпозиуме» Платона. Однако кристаллизация — это не стремление вознестись к некой запредельной идее или желание соединиться со своей утраченной половиной, а желание представить другого в качестве своего возлюбленного. Любовь формируется в мастерской нашего воображения, становясь более реальной, чем любой предмет, созданный в мастерской ремесленника или самой природой.
«Возьмите голую ветку, — заметил Стендаль, — и положите ее в одну из пещер под Зальцбургом. Если бы вы вернулись за веткой через несколько месяцев, вы бы ее не узнали. Теперь, инкрустированное слоем блестящих кристаллов, то, что было голым деревом, возродилось как объект ослепительной красоты. Так же и с пещерой нашего воображения. Мы помещаем в нее образ другого человека, и со временем она тоже обрастает кристаллами». Этот образ, украшенный «тысячей новых совершенств, становится вашим величайшим наслаждением». Вы сомневаетесь, что эти совершенства реальны? В ответ Стендаль мог бы только вздохнуть: очевидно, вы никогда не знали любви. В отличие от большинства эмоций, которые «приспосабливаются к холодной реальности», любовь формирует реальность. «Чудо цивилизации», — провозгласил Стендаль, — «происходит в горниле страсти, когда воображаемое становится реальным». Не то, что кажется реальным, заметьте, а то, что действительно реально — а именно, ваше отношение к иному.
* * *
Под «кристаллизацией» Стендаль подразумевал то, что мы испытываем, когда влюбляемся в другого человека. Такая любовь, по его словам, «всегда была для меня самым важным, или, скорее, единственным, что имело значение». Небеса свидетельствуют, что он хорошо практиковался в такого рода алхимии, украшая своими кристаллами множество итальянок, с которыми он в основном не имел успеха.
Но оказывается, что кристаллизация применима и к политике. Стендаль не говорит нам об этом, но он снова и снова демонстрирует это в своих художественных произведениях. В романе «Красное и черное» он изобразил убежденных аристократов (более монархически настроенных, чем сам монарх), как фанатиков, чье страстное желание изменить ход событий двадцатипятилетней давности, хотя и объективно неумное, составляло их сущность. Убежденные в том, что они могут повернуть время вспять, они преуспели лишь в том, чтобы убедить героя, Жюльена Сореля, в том, что они смешны. «Они так боятся якобинцев», — размышляет он. «За каждой изгородью им мерещится Робеспьер и его тумбриль» (повозка, используемая для перевозки приговоренных к смерти заключенных, особенно к гильотине во время Французской революции — прим. пер.).
И все же якобинцы, зеркальное отражение ультралевых, также отталкивали Стендаля. Он презирал революционные страсти, которые привели от славы Бастилии к кровавому террору и превратили народ в толпу, попирающую ценности 1789 года. Люсьен Левен, главный герой незавершенного одноименного романа Стендаля, признает энергию радикальных республиканцев, но также беспокоится о том, что предвещает их победа. Яростно возмущенный жалким положением бедняков, он также опасается будущего, в котором их якобинские лидеры получат политическую власть. В таком обществе, по его мнению, «людей не считают, а подсчитывают, и голос самого плохо воспитанного рабочего имеет такое же значение, как и голос Джефферсона» (сторонник демократии, был отцом-основателем Америки, главным автором Декларации независимости (1776) и третьим президентом Соединенных Штатов (1801-1809) — прим. пер.).
Хотя опубликовал первый том Демократии в Америке незадолго до смерти Стендаля в 1842 году, нет никаких признаков того, что романист читал его. Тем не менее, они разделяют ту же неуверенность в неизбежном шествии демократии, что и в неизбежном отступлении аристократии. Таким образом, оба автора составляют неудобную компанию для тех, кто относится к политическим левым и правым.
Однако, когда речь заходила о мире политики, Стендаль был более суров, чем Токвиль. Он относился ко всем ее представителям свободно и одинаково, но без всякого радушия. С ослаблением революционной энергии политика превратилась в грязное дело, где добро уступает место алчности, а люди становятся средством для власти, а не ее целью. Несомненно, Стендаль разделял циничное отношение отца Люсьена Левена, успешного бизнесмена, который говорит сыну, что «правительства лгут постоянно и обо всем; когда они не могут лгать о сути, они лгут о мелочах».
Еще более тревожно то, что революционный порыв, не менее чем его реакционный аналог, часто приводит к тирании. Стендаль был искренним республиканцем, но республиканцем pas comme les autres (не такой как другие — фр.). С детства — или, по крайней мере, с детства, которое он изобразил в своих автобиографических произведениях, — у Стендаля была аллергия на тиранию. Примечательно, что в своих личных сочинениях он подчеркивал свою непреходящую ненависть к холодному и авторитарному отцу, прямо связывая восстание Франции против монархии со своим собственным восстанием против патриарха. Действительно, когда 10-летний Бейль узнал об обезглавливании Людовика XVI в. 1793 году, взрослый Стендаль утверждал, что его «охватил один из самых горячих порывов радости, которые я когда-либо знал в своей жизни».
Некоторые биографы подозревают, что республиканизм Стендаля был не политическим, а психологическим. Как они могут не согласиться с этим, учитывая его заявление: «Любая тирания меня возмущает, и я не люблю власть»? Как считает один из его современных биографов, Джонатан Китс, Стендаль был не столько человеком левых взглядов, сколько человеком «укоренившейся антипатии к сложившемуся положению вещей».
Подобно американскому оппоненту с не менее известным псевдонимом, Стендаль отказывался принадлежать к какому-либо сообществу, которое приняло бы его в свои ряды. Он осуждал авторитаризм и защищал либерализм. Но он также защищал свое право не иметь ничего общего с теми, кто больше всего выигрывает от либерализма. Как утверждает рассказчик в романе Красное и черное , «тирания общественного мнения — и какого мнения! — так же глупа в маленьких городках Франции, как и в Соединенных Штатах Америки».
Обе нации имели свою долю глупости как тогда, так и сейчас. Но у них было и кое-что другое. Во Франции начала XIX века, как и в Америке начала XXI века, вы могли не интересоваться политикой, но политика интересовалась вами. Эта истина управляла жизнью вымышленных персонажей Стендаля так же, как и его собственной жизнью. Политические события, происходившие в течение четверти века между взятием Бастилии и падением Бонапарта, были, по памятной фразе Джорджа Штайнера, гораздо больше, чем временные обозначения: «Они означают великие бури сущности, метаморфозы исторического пейзажа, столь бурные, что почти сразу приобретают просто-таки легендарный размах».
Стендаль всегда настаивал на том, что политике не место в художественной литературе, что достойно противоречивого человека, даже когда дело касалось его собственной работы. «Присутствие политики в литературном произведении, — утверждал он, — подобно выстрелу из пистолета на концерте». Однако, хотя выстрелы часто бывают приглушенными, они неоднократно звучат в его романах. Тогда, как и сейчас, мужчины и женщины понимали мир и свое место в нем через политику. Это не менее верно и для героев Стендаля. Но la politique (политика (фр.)), как предполагает Штайнер, часто перетекала в la mystique (мистика — фр.). Ни в один период современной истории это не происходило так, как во время взлета и падения Наполеона. Возможно, не было человека, в чьем сознании факты и вымыслы наполеоновской карьеры смешивались бы так творчески, как у Стендаля.
* * *
Когда-то быть бонапартистом и республиканцем было вовсе не абсурдным. Напротив, это казалось совершенно логичным. Стендаль был не одинок в своем восхищении молодым человеком, овладевшим революционным энтузиазмом нации. Образ лихого генерала, который, взлетев из безвестности к славе, повел свою революционную армию по Италии, освобождая один город за другим от мертвого груза монархии, захватил воображение того поколения. Энергия, воплощенная в молодом Наполеоне, обещала смести старый и устаревший мир иерархии и власти и привести к новому миру достоинства и славы.
Неудивительно, что это было время, когда, как вспоминал позднее Стендаль, «мы могли страстно любить Наполеона». Однако его любовь, при всей ее пылкости, никогда не была безрассудной. Кристаллическая пелена, которой он покрыл Наполеона, в конце концов, раскололась, обнажив эгоистичное, несовершенное, слишком человеческое существо внутри. В двух незаконченных произведениях, посвященных Наполеону, Стендаль неоднократно осуждает его превращение из «сына революции» в «абсолютного деспота», который, провозгласив себя императором, «украл нашу свободу». Трагедия наполеоновской империи, сетует Стендаль, заключалась в том, что «в итоге религия стала защищать тиранию, и все это во имя счастья людей».
Его чувство разочарования усилилось после похода на Москву в 1812 году, когда Наполеон вывел 700 000 солдат, включая 300 000 французов, на замерзшие поля брани в России, оставив большинство из них погибшими там же через несколько месяцев. Комиссар Анри Бейль, один из 55 000 французских солдат, вернувшихся домой, вел колонну из 1 000 раненых воинов в безопасное место со спокойной уверенностью, которую высоко оценили другие офицеры. (Действительно, он был настолько спокоен, что во время отступления читал копию корреспонденции мадам дю Деффан***, которую он вытащил из горящего дома в Москве).
Позднее Стендаль порадовал читателей — в том числе и глубоко впечатленного лорда Байрона — своими отстраненными и почти полностью лишенными эмоциональности рассказами об этом ужасающем испытании. И все же, описывая ужасы войны, он как будто обратился к той же чрезвычайной тщательности повествования, которую использовал для описания чудес любви. «Я делаю все возможное, чтобы быть непредвзятым. Я хочу заставить замолчать свое сердце, которое считает, что ему есть что сказать. Я всегда трепещу при мысли, что изложил истину, когда начертал лишь вздох».
И все же этот опыт мучил и преследовал Стендаля всю жизнь. Это событие, писал он позже с лаконичной ясностью, «заставило меня с подозрением относиться к атрибутам смерти. Не из-за опасностей, с которыми я столкнулся, а из-за страшных видов террора, страданий и угасания жалости. Трещины в стенах больницы в Вильно были забиты замороженными кусками человеческих тел. Эта картина никогда не исчезнет из моей памяти». Это также сделало его подозрительным к политике, особенно когда она превращает одного человека, такого как Наполеон, в «нашу единственную религию». Стендаль понимал, что произвол заразителен, он развращает не только душу деспота, но и угрожает душе нации. Это было верно при монархиях Бурбонов и бонапартистов. Что особенно важно, так было и при орлеанистской монархии, которая, ловко захватив власть в неразберихе революции 1830 года, оказалась не менее деспотичной и развращенной (была хозяйкой литературного салона и меценаткой (1696-1780)).
Что делать тем, кто достиг своей зрелости в ту эпоху? Быть счастливыми, отвечал Стендаль.
* * *
Говоря о счастье, Стендаль имел в виду нечто конкретное и, да, серьезное. Не совет Бобби Макферрина (американский фолк- и джазовый исполнитель (1950) и его песня (хит № 1 1988 года) "Don't Worry Be Happy" — прим. пер.), а скорее то, что мы должны смотреть в лицо своей жизни и быть честными. В конце этой деятельности лежит Le bonheur (счастье — фр.), которое мы можем полностью реализовать только в открытом обществе. Закрытое общество, такое как послереволюционная Франция, скованное социальными различиями и условностями, столь же примитивными, сколь и безусловными, стремится предотвратить это наиболее жизненно важное занятие. Для тех, кто все же пытается бороться с этим в подобном обществе, такая честность влечет за собой смерть.
Возьмем Жюльена Сореля, двадцатилетнего героя романа Красное и черное , которого так захватило воспоминание о Наполеоне накануне казни — его приговорили к смерти за попытку убийства мадам дю Реналь, единственного человека, которого он по-настоящему любил, — он размышляет о своей героической, но неудачной попытке с помощью той же энергии, которую воплощал его кумир, подняться над своим крестьянским происхождением и стать хозяином самому себе и этому ханжескому и лицемерному миру реставрационной Франции. После долгой ночи неустанных размышлений, в результате которых он отбрасывает искушения как веры, так и неверия, Жюльен примиряется со своей жизнью: «Он чувствовал себя сильным и решительным, как человек, который ясно видит свое собственное сердце».
Критик Уоллес Фаули, один из самых благожелательных читателей Стендаля, утверждал, что авторский гений отчасти объясняется сочувствием к своим героям. Он был, пишет Фаули, «буквально населен своими героями», открывая себя, как он открывал их. И они, и их создатель раскрывают более верное понимание счастья, чем мы, похоже, считаем. Стендалевское bonheur (счастье — фр.) не означает, как мы склонны считать, успех в работе и любви. Напротив, счастье можно обрести, преодолевая наши неудачи в поисках того или иного.
А этого можно достичь, только правильно оценив и глубоко прочувствовав эти усилия. Причем эти усилия могут быть как нашими, так и других людей. И эти люди могут быть как вымышленными, так и реальными. Как уже известно из «To the Happy Few», в мире Стендаля такие различия не имеют различий.
Роберт Зарецки (Robert Zaretsky) — профессор Высшей школы Хьюстонского университета, преподает в городском Женском институте. Автор литературных биографий, сейчас он пишет книгу о Стендале.
Совместный проект Клуба Лингвопанд и редакции ЛЛ
Авторы из этой статьи
Читайте также
Комментарии 3
Показать все
Другие статьи
-

-

-

-

-

-

-

-

 Пламя души с нами/внутри или снаружи/и вот мы плывём морями/даже в обычной луже...)
Пламя души с нами/внутри или снаружи/и вот мы плывём морями/даже в обычной луже...)12 сентября 2021 г.
1K
-

 Дэймон Гэлгут: «После прочтения Роальда Даля мир уже никогда не выглядел прежним»
Дэймон Гэлгут: «После прочтения Роальда Даля мир уже никогда не выглядел прежним»15 сентября 2021 г.
25K


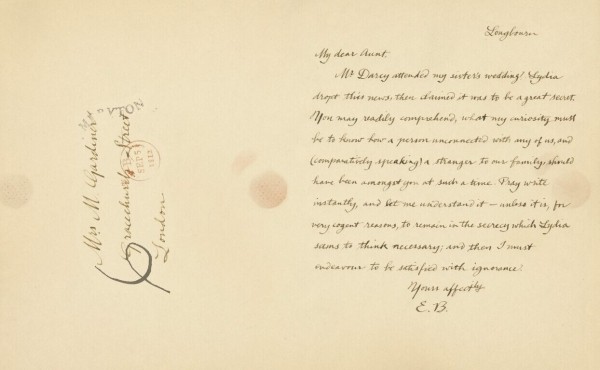










«Красное и чёрное» - давно стоит в списке книг, которые я хочу прочитать. Надо собраться и познакомиться)