Больше рецензий
29 января 2018 г. 08:00
970
2
РецензияЭто будет очень длинная простыня. Я хочу объяснить свою негативную оценку книге, которую многие хвалят.
Лиллианна Лунгина рассказывает о своей жизни. Это её рассказ, она вольна говорить о том, что больше запомнилось, что затронуло, и расставлять акценты там, где считает нужным. Но я это выдержала с трудом. Дело в том, что всё свое повествование она намеренно ведет через призму раскрытия ужасов советского режима. Процентов 70 (семьдесят!) книги так или иначе посвящено тому, как тяжело было жить в Советском Союзе. То есть большая часть рассказа о жизни человеческой, жизни женщины, жены и матери, человека, занимающегося делом интересным и, в общем-то, любимым не посвящена по сути ничему из перечисленного. Всё это упоминается постольку, поскольку помогает показать, как невозможно было жить.
Я не питаю к Союзу никакой любви, не хочу его вернуть, не считаю, что «Сталина на вас нет». Но я категорически не люблю, когда кто-то начинает ругать наше прошлое вот так огульно обвиняя всю страну потому, что де в ней хуже, чем в Европе. А она делает это всю книгу. Практически каждая из 67 небольших глав сводится к тому, что жить было невозможно. Ах, трехкомнатная квартира, но дом без лифта, подниматься нужно по настилам, минимум мебели. Поездки в Коктебель, две очень хорошие школы, чудесный вуз (ИФЛИ по описанию Лунгиной чем-то напомнил вторую физико-математическую школу), вокруг неё, по её же словам, всё время прекрасные ребята – умные, образованные, интеллигентные, культурные. Всё время собирались в месте, общались… Из всех глав, посвященных той, довоенной, школьно-институтской жизни, выпавшей на время эпохи большого террора, создается ощущение, что эти замечательные ребята собирались вместе только для того, чтобы поговорить о высоком и осознать весь ужас, абсурдность и жестокость советской государственной машины. В сравнении с этими историями герои книги «Завтра была война» - художественного произведения, основной задачей которого было показать как раз весь ужас арестов, отречений детей от родителей – выглядят гораздо живее. Они влюбляются, гуляют по ночам, ездят на пикники, и да, обсуждают происходящее вокруг. Вот им я верю. А почти всё, что рассказывает об этом времени Лунгина сводится к арестам, разоблачениям, раскаяниям, доносам. А люди, которые рядом с ней, с которыми она дружила, общалась, влюблялась сливаются в единую массу. Они просто были очень умные, очень разносторонне образованные. Ну вот не верю я, что все интересы молодой девушки сводились к обсуждению ужасов режима на основании широких познаний в литературе и искусстве. Что не было ни красивых платьев, ни первых любовей. Вот это была бы жизнь человека, а не разоблачение культа личности «девочкой из Европы». Так идет и дальше. Всё больше известных лиц мелькает в её рассказе, но основная направленность о том же – советская машина ломала всех, старалась всех запятнать, любого могли арестовать, сослать, расстрелять. Жить было нельзя. Да что там нельзя – никто и не жил:
До тридцать шестого года все жили во имя «общего дела» и никто не помышлял о частной жизни. Ее едва хватало на то, чтобы завести детей. А потом внезапно, после одной-единственной фразы Сталина «жить стало веселее», все поменялось. Народ послушался. Коммунисты стали исправно влюбляться и заводить семью.
Тут я даже не нахожусь, что сказать. В общем, всё было плохо в этой стране у девочки/девушки/женщины, которая никогда не голодала, не жила в коммуналках, любила и была любима, родила от любимого человека двоих сыновей, вращалась в кругу интересных людей. Как там у Булгакова: «Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. Словом... Она была счастлива? Ни одной минуты!» Мне вообще показалось, что какая-то, возможно скрытая, затаенная, основа её суждений прорвалась при рассказе о Великой Отечественной войне:
И между прочим, меня не пожалеть было трудно. Но, кроме него, меня никто там не пожалел.
Пожалейте молодую, здоровую, сытую девицу, у которой в эвакуации работа не бей лежачего и только впервые, наверное, в жизни пришлось как-то покрутиться, чтобы обеспечить себе условия жизни. А то все вокруг черствые - на постой бесплатно не пустили, вещи забирали в обмен на жилье, о дровах для неё никто на халяву позаботиться не хотел, и вообще пообщаться было не с кем. На фоне того, что тогда происходило в стране, того горя, что посетило почти каждую семью, её почему-то должны были пожалеть.
Кроме того, что Лунгина хает всю жизнь в СССР, она очень лихо судит окружающих. О нет, симпатичные ей люди всегда замечательны, умны, интеллигентны. Но она всегда умнее, интеллигентнее, ведь её мировоззрение сформировалось еще во Франции, она мыслит шире. Видимо, именно поэтому она может выносить свои оценки поступкам других.
К сожалению, во время кампании посадок старый профессор Радциг повел себя очень плохо. Каялся, выступал, на кого-то доносил.
В угол поставить старого профессора! Чтобы как следует подумал о своём поведении! Это может и придирка к слову, но меня по сути поражает, как Лиллианна, вроде бы пытаясь показать, что система ломала всех, подчиняла человека, не позволяя ему остаться хоть немного свободным, берет на себя право осудить человека, попавшего в жернова этой системы. Её она, кстати, обошла стороной. Очень близко, почти вплотную, но всё же не задев. И такая оценка вынесена профессору за поведение во время кампании еще довоенной (страшный 37 год нынче на слуху). А вот еще, год 38-39:
В ИФЛИ начались ужасные собрания. Мне помнится, что почему-то для них снимали зал консерватории — в ИФЛИ, вероятно, не было достаточно большой аудитории, — и там старшекурсники с необычайным восторгом и энтузиазмом занимались самобичеванием, бичеванием своих родителей и произносили страшные покаянные речи. Каялись они в том, что отец их арестован, мать арестована, а они сами виноваты перед партией и страной, что вовремя не разоблачили родителей. Какую ахинею, какую чушь, якобы покаянную, плели эти хорошие, умные, интеллигентные ребята, читавшие уже все западные классические произведения, слышавшие того же Гриба и Пинского, в общем, люди с расширенным, культурным взглядом на мир, — что они там несли, бия себя в грудь и каясь, что они не смогли вовремя, первыми, до КГБ, разоблачить своих родителей.
А чтение западной классики и расширенный культурный взгляд на мир – это что, синонимы смелости, несгибаемости, честности, порядочности? При общей атмосфере страха даже я могу понять этих ребят, не мне их судить, но понять их я могу. А вот Лунгина, которая пережила это время и, якобы, осознала всю эту систему своим расширенным европейским мировоззрением, почему-то нет. Меж тем уже гораздо позже:
Когда Алик Гинзбург, о котором я уже рассказывала, вышел из тюрьмы, то он собрал материалы по делу Синявского и Даниэля и издал так называемую «Белую книгу». Один экземпляр он передал председателю Верховного Совета Подгорному, а другие раздал друзьям с просьбой, прочитав, передавать другим. И снова был арестован. Нам с Симой предложили подписать письмо в его защиту. Но мы отказались. Потому что в тот момент, в конце шестидесятых годов, мне разрешили поехать во Францию — я еще расскажу. Я безумно хотела поехать, хотела сомкнуть мою взрослую жизнь с детской жизнью, боялась, что меня не выпустят, говорила себе, что еще одна подпись ничего не решит…
О нет, за это малодушие она так раскаивается! Но ведь на горизонте маячил Париж… Не расстрел, не ссылка, не пытки – запрет на выезд в Париж. А те, кто трусил и кого-то сдавал – подлецы, да. Слаб человек, но почему-то считает, что смеет судить других и строго судить. Вообще при строгости своих оценок окружающим по поводу их честности, порядочности, принципиальности, себя Лунгина готова оправдать гораздо легче:
Я четырежды получала отказ с одинаковой формулировкой: ваша поездка в настоящий момент считается нецелесообразной. Потом я писала на имя министра внутренних дел, поскольку ОВИР был в ведомстве Министерства внутренних дел, и получала стандартный, напечатанный типографским способом ответ, что нет оснований пересмотреть ранее принятое решение. И после четвертого отказа мне кто-то сказал: ты не туда пишешь, что ты пишешь министру внутренних дел? Ты Андропову напиши. И я написала Андропову, хотя люди, близкие друзья, меня осудили: как ты можешь к такому мерзавцу обращаться, с ним неприлично вступать в переписку. А я думаю: мне плевать, я хочу попасть в Париж.
Это ли не лицемерие?
На протяжении книги Лунгина сталкивает нас со многими известными людьми, с кем-то заочно, например, рассуждая о трагической судьбе Цветаевой, или очно, описывая свою встречу с Анной Ахматовой (обязательно в отвратительной, как и все советские, больнице). Очень широкий круг друзей и знакомых, но все они являются представителями интеллигенции: поэты и писатели, критики и театроведы, режиссеры, ученые. И вдруг:
В цехах рабочие не могли включить станок, не хлебнув водки или самогона, потому что после вчерашней пьянки дрожали руки, и, чтобы унять дрожь, нужно было опохмелиться: «поправиться».
*нецензурная лексика* Где же вы, мадам, умудрились так тесно познакомиться с бытом и жизнью простых рабочих? Или это снобистское пренебрежение к пролетариату?
Вроде бы книга и фильм называются «Жизнь Лиллианны Лунгиной, рассказанная ей самой» И я снова возвращаюсь к тому же. Жизнь человека не сводится к политической системе, в которой он существует, сколь бы плоха она не была. Меж тем на 518 странице моей электронной читалки вдруг выясняется:
Если подводить еще итоги моей жизни, то, конечно, главное в ней — это два сына.
Если до этого наберется хотя бы 10 страниц про сыновей, будет удивительно, мне кажется, гораздо меньше. Ну так, упоминалось только, что старший Павлик( родился в день Петра и Павла, отсюда и имя), что потом очень хотела девочку, но родился мальчик Женя ( в честь близкого друга, и вроде как даже первой любви, погибшего на войне), что с тех пор всех девушек сыновей любит, как бы считая их своими дочками. Это – о главном в жизни, о детях. Зато характеристики Сталину, Хрущеву и Брежневу даны куда подробнее и красочней. О любимом муже, помимо знакомства, «женитьбы» и постоянного упоминания («мы с Симой», «Сима написал», «Сима с Элькой работали»), - последняя глава. Одна глава о человеке, с которым пройдено полжизни. Меня как-то никогда не интересовало, кто переводил любимого мной в детстве Карлсона, да и сейчас я не слишком много внимания уделяю переводчикам, потому обращусь к аннотации:
Благодаря ей русские читатели узнали "Малыша и Карлсона" и "Пеппи Длинныйчулок" Астрид Линдгрен, романы Гамсуна, Стриндберга, Бёлля, Сименона, Виана, Ажара.
Так вот в книге немного о Линдгрен и её переводах, в самом конце об эксперименте с переводом Виана и знакомстве с Энде. Всё. Зато куда как больше о репрессиях, о том, кого куда не пускали, не брали, не печатали, прослушивали и преследовали, арестовывали. Нет, она неплохо рассказывает о людях, о многих даже трогательно, и рассказчик она хороший, повествование льётся довольно увлекательно. В книге есть интересные, симпатичные моменты. Но я бесконечно устала от постоянных жалоб на протяжении всей книги (как, скорее всего, устал тот, кто дочитал мою рецензию до этого места).
По словам Лунгиной же:
Вот когда я сказала «как легко забывается», я хотела именно это передать, что человек, выпрыгнув из чего-то очень плохого, как будто все это отбрасывает…
Ох не сходится это с её воспоминаниями – то ли жилось ей на самом деле не так плохо, то ли копаться в этом доставляет ей удовольствие. В книге отмечается, что успех «Одного дня Ивана Денисовича» обусловлен тем, что Солженицын догадался описать счастливый день, самый счастливый из череды невыносимых. Лиллианну судьба не обидела, подарив гораздо больше, чем многим и многим, но для этой книги из всей своей жизни она старательно выбрала самое плохое. Предъявила счет за всё, что не было дано. А мне после этого как-то вспомнились строки Вероники Тушновой:
Сто часов счастья… Разве этого мало?
Я его как песок золотой намывала…
…По крупице, по капле…
Флэшмоб 2018. piskovatskova , простите, не понравилась мне эта женщина. Но в любом случае, спасибо за совет)
Собери их всех. Дуэль с platinavi

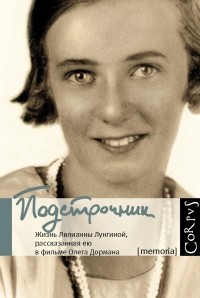
Комментарии
Книге оценку поставила выше, чем Ваша, но мысли по поводу этого рассказа были очень схожими с Вашими, на те же моменты обращала внимание. Например, рассказ про эвакуацию покоробил, она это описывала с такой ненавистью к окружающим ее людям, с такой жалостью к себе, что я просто диву давалась, как она такое говорить могла, когда многие страдали намного сильнее, чем она... И про детей у меня сходные мысли. Очень мне не хватило рассказа переводчика о ее переводческой работе - эти моменты были упомянуты как-то совсем вскользь, не ярко, без подробностей. В общем, да, мысли у меня были созвучны Вашим. Спасибо за отзыв!
Знаете, я эту книгу читала и слушала два дня. В первый день закончила на первых послевоенных годах и думала, что поставлю нейтральную троечку, может даже три с половиной - по сумме отрицательного и положительного (об окружении в Париже, о родителях, о атмосфере в школах и ИФЛИ, где все были такие хорошие). А на следующий день чем дальше читала, тем больше сталкивалась с тем, что хорошие - это только те, кто вместе с Лунгиной, кто ей нравится, с кем она согласна. Остальные обязательно подлецы, коньюнктурщики и так далее. И к концу книги мне эта линия просто настолько надоела, что аж жуть. Верите, я вот сейчас с трудом наскребаю в памяти эпизоды, где помню что-то хорошее.
И тот факт, что о своей работе (черт с ними, с родными и близкими) она говорит совсем немного и вскользь, для меня тоже показателен. Так много о претензиях к власти, к системе, к людям; так много о том, что она понимала, осознавала, ужасалась, была против; и так мало о реальном деле - не против власти - об обыкновенном труде.
Скорее Вам спасибо! Приятно знать, что не мне одной всё это так резало глаз.
Отличная рецка! В избранное! Терпеть такое не могу, отдает погоней за модными темами...
Спасибо) Вот знаешь, с одной стороны, ругать конкретно Союз - это сейчас модная тема, а с другой (я тут медленно, но верно Сагу об Олексиных Васильева читаю, а мама тыняновского Пушкина взяла, и как-то очень заметно стало) - ругать власть в среде интеллигенции походу всегда было модно.
Видимо, да, признак такой, но я не люблю однобокость и крайности, что это за автобиография такая, где ни о чем кроме власти толком не говорится?..
Вот собственно мою рецку ты уместила в одной фразе)
Вечером понедельника я лаконична;)))
Немногословна :-D Но зришь в корень!
Ага)) Спасибо на добром слове))))
Согласна с каждым словом. Диву даюсь, почему так много восторженных отзывов об этой книге. Наверное, просто очень многим людям нравится читать "чернуху" о нашем советском прошлом. Но жили же наши бабушки, дедушки, мамы, папы и умели быть счастливыми в намного более тяжелых условиях. Но, конечно же, больше всего страдала интеллигенция, живя в отдельных квартирах, имея прислугу, поездки в Коктебель, заграницу и тд. Мне стало противно, когда она описала свой побег в Москву во время войны из городка, куда их с мамой эвакуировали. Не помню подробностей (давно читала), но неприятно было читать об ее терзаниях - и маму тут одну бросить жалко, и хочется уехать ненадолго в Москву, потому как скучно аж скулы сводит.. И все-таки ведь уехала.. Народ на своих плечах такую войну вынес (тот самый народ, которого она в алкаши записала), а ей скучно. Дед мой, вынесший все ужасы плена и немецких концлагерей, вернулся в Россию, дожил до 86 годов, работал на заводе, а пил только по праздникам немного красного вина. Где она взяла алкашей? За державу обидно, как говорится, после таких вот автобиографий..
Вот! Я не собираюсь защищать союз, более того, я понимаю, что есть люди, которым та система конкретно сломала жизнь, и им не за что её благодарить. Но не могу понять, когда человек все рассказы о своей жизни так или иначе сводит к плохой стране при том, что сама она в этой стране жила не так уж плохо. И ей есть, что рассказать о жизни хорошего, но говорит она в основном о плохом. Для чего?
Написала свою рецензию, решила другие почитать. Вот прямо те же впечатления. Интеллигенция в нашей стране всегда страдала больше всех - народ-то быдло необразованное, ему то крепостное право отменяй, то революцию делай, а оно все пьеть да пьеть. И это четко видно вот прямо до сегодняшнего дня.
И насколько же автор сама лицемерна - другим нельзя, а мне можно, я же всем уже рассказала, что я против системы, а теперь отпустите меня в Париж.