Больше рецензий
2 июля 2017 г. 23:30
2K
2
РецензияВ книге Юваля Ноя Харари, историка из Еврейского университета в Иерусалиме, более 500 страниц, так что эта история не так уж и кратка. Но кратким быть нелегко, ведь, как известно, «краткость - сестра таланта». Однако сама попытка быть кратким, чтобы рассказать только о главном в истории человечества, заслуживает уважения.
Задача, однако, не проста. Да, автор старался. Судя по «Примечаниям», он прочёл по крайней мере сотню книг о всяких частных историях: о расселении людей по земному шару, об отдельных народах и племенах, о наиболее известных странах от древности до современности, об эволюции семейных отношений и представлений о женственности и мужественности, о развитии языков, письменности и мировых религий, об одомашнивании растений и животных, о мореплавании и железнодорожном транспорте, химии и металлургии, медицине и психологии, о деньгах, насилии и колониализме, об изменениях в биосфере и о прочем подобном.
Кроме того, в «Примечаниях» автор ссылается на статьи, числом более ста, как специальных, так и научно-популярных, посвящённых ещё более частным вещам. Многие воспроизведённые автором факты и догадки очень любопытны. Но, заметим, приведённый выше список сюжетов, хоть и не краток, но далеко не полон, т.е. не включает в себя многого, не менее существенного. Кроме того, по любому вопросу, затронутому или не затронутому автором, есть целый спектр взглядов, поэтому нельзя полагаться на какой-то один источник.
Но на что же нанизываются все эти факты и догадки? Что является стержнем истории человечества? Ни в «Примечаниях», ни в тексте книги мы не найдём ссылок на авторов, размышлявших на эту тему (а их было немало!).
Здесь, правда, есть тонкость. Даже в специальной литературе, не говоря уже о научно-популярной (к которой относится книга Харари), автор вправе не ссылаться на общеизвестные концепции и не обязан, выдвигая оригинальные идеи, подчёркивать их оригинальность. В такой ситуации автор, заимствующий свои взгляды из неназванных источников, легко может сойти за новатора в глазах неискушённой публики, и при этом, ничего явно себе не приписывая, попытаться сохранить лицо в глазах специалистов.
На мой взгляд, здесь именно такой случай. Мне эта манера неприятна: при множестве ссылок (полностью оправданных) на авторов частных историй мы наблюдаем практически полное игнорирование (только внешнее, разумеется) ранее предпринятых усилий по описанию эволюции общественных формаций, по поиску ключевых закономерностей в политической и экономической истории человечества, по систематизации достижений в области устройства повседневной жизни, правовых институтов, искусства, медицины, науки, техники.
Но тактика работает: книга, как сообщают её издатели, издана в более чем тридцати странах и, значит, неплохо расходится. Этому, по-видимому, способствуют восторженные строки из рецензий из ведущих мировых изданий, размещённые на обложке книги. Хотя и здесь, конечно, хитрость: дело, по-видимому, не столько в наивности рецензентов (хочется верить, что не всё так плохо), сколько в корпоративной солидарности внутри издательского бизнеса (в котором сосуществуют как книги, так и пресловутые мировые издания).
У этого подхода есть, однако, очевидные издержки. Исследователь, погрузившийся в предмет и обнаруживший нечто новое, никогда не станет игнорировать предшественников, потому что понимает, что новое знание имеет смысл только как часть, как продолжение ранее открытого. Наоборот, игнорирование прежних достижений легко даётся верхоглядам, полузнайкам. Но стратегически они обречены: отсутствие глубины, образования, логики рано или поздно обнаружится. Одну-две книги неискушённый читатель прочтёт, но если заинтересуется, то быстро разберётся, кто чего стоит, т.е. перестанет быть неискушённым, и после этого обратится совсем к другим авторам.
Так что главная особенность книги Харари - это, на мой взгляд, поверхностность. Что нам выдают за «стержень» мировой истории? Последовательность трёх революций: когнитивной, аграрной и научной. Не собираюсь здесь заниматься сколько-нибудь подробной критикой (оставим это специалистам, если среди них найдутся желающие, а я - просто любитель). Только замечу, что уже в самой концепции смешаны три разные истории.
Есть история развития способностей человека сохранять и передавать от поколения к поколению умения и знания. Есть история общественных укладов, которые определяются тем, чем в основном заняты люди. И есть история развития способностей человека приобретать умения и знания, а также их использовать. (Заметим в скобках, что есть, очевидно, и множество других историй!) Все эти истории параллельны и, разумеется, связаны друг с другом. Но это разные истории.
Так вот, первая из упомянутых историй начинается с «когнитивной революции». Речь идёт о появлении языка не только как средства координации совместной деятельности людей, но как средства передачи информации об умениях от одних людей - другим, от одного поколения - следующему. Дальнейшие вехи этой истории - изобретение письменности (чему Харари уделяет много внимания), изобретение книгопечатания (чему Харари не уделяет никакого внимания, даже, как будто, не упоминает) и изобретение интернета (чего Харари, по-видимому, совсем не понимает, так как, опять же, ни разу не упоминает).
Вторая история - это история общественных укладов. Большую часть своей истории (насчитывающей десятки тысяч лет) люди прожили в форме бродячих сообществ охотников, рыболовов и собирателей (некоторые авторы называют этот уклад «первобытно-общинным»). В этой фазе случилась «когнитивная революция», по-видимому, сильно растянутая во времени. Условно говоря, до этой революции были бродячие сообщества человекообразных существ, а после - такие же бродячие сообщества, но уже людей современного типа. И вот в какой-то момент (опять же, сильно растянутый во времени) люди перешли от охоты на животных к одомашниванию и разведению животных, и от собирания растений - к одомашниванию и выращиванию растений.
Случилась «аграрная революция», которая повлекла за собой переход к оседлой жизни, к аграрному обществу или укладу, к появлению деревень, а потом и городов. При этом возникло классовое, феодально-крестьянское общество с многочисленными прослойками (комплекс правовых норм, связанных с аграрным укладом, принято называть «феодализмом»).
Следующая веха этой истории связана с переходом от аграрного к промышленному укладу. Как правило, этот переход сопровождался появлением буржуазно-пролетарского общества с ещё более многочисленными прослойками. Для обозначения этого уклада Харари предпочитает использовать термин «капитализм», который, в действительности, означает специальный (отнюдь не универсальный) комплекс правовых норм, регулирующих функционирование буржуазно-пролетарского общества.
И, наконец, третья история - про умения и знания. Собственно благодаря им человечество и перешло к аграрному обществу. Ведь нужно было научиться ухаживать за животными и растениями так, чтобы они стали одомашненными. Но развитие на этом не остановилось, наоборот, люди осваивали всё больше умений и приобретали новые знания. На одном из этапов этого развития из ремёсел выросла промышленность. Можно, конечно, назвать этот этап «научной революцией» (как делает Харари вслед за множеством других авторов), но я не уверен, что в этом есть глубокий смысл. Вся история человечества есть, в сущности, «научная революция», люди всё время осваивали какие-то новые умения и приобретали новые знания (и сейчас дела обстоят точно так же).
Таким образом, если следовать логике, то нужно выбрать какую-то одну историю. Можно сказать, что главное в истории - это смена общественных укладов (так некоторые авторы и поступают): первобытное общество - аграрное общество - промышленное (индустриальное) общество (а некоторые авторы любят порассуждать ещё и о «постиндустриальном обществе», но в обсуждаемой книге этого нет). А можно сосредоточиться на переходах от одного способа хранения умений и знаний к другим: устная речь - рукопись - книга, сошедшая с типографского станка (и, опять же, умолчим про интернет, раз в книге этого нет). Сами же умения и знания лучше не трогать: скачков («революций») было очень много, начиная с освоения огня.
Разумеется, можно проследить за эволюцией научных институтов (включая систему образования). Но, возможно, не меньший интерес представляют правовые институты. В общем, у Харари нет ни логики, ни чего-то нового, а только смешение известных вещей.
Подобное верхоглядство, переходящее местами в откровенное пустозвонство, прослеживается по всей книге. Один из ярких примеров - рассуждения о том, что «образ жизни охотников и собирателей... представляется более комфортным и приятным, чем участь пришедшим им на смену земледельцев, пастухов, рабочих и офисных служащих». Нельзя отрицать того, что классовое общество, в том числе современное, несмотря на все накопленные в мире богатства, способно доводить отдельных своих представителей до полного истощения. Но как совместить предполагаемые «комфорт и приятность» в первобытном обществе с высокой детской смертностью и незначительной продолжительностью жизни? Известно, что даже переход к аграрному обществу сопровождался ростом численности населения.
Или вот пассаж про богатых и бедных: «В средневековой Европе аристократы беззаботно тратили деньги на экстравагантную роскошь, а крестьяне жили бедно... Сегодня всё наоборот: богатые тщательно следят за своими вложениями, а не столь обеспеченные набирают кредиты, покупая автомобили и телевизоры...» Плакать хочется, так жалко этих богатых!
Но, собственно, к чему всё это? Зачем люди интересуются историей человечества? Очевидно затем, чтобы понять, к чему всё клонится, чего ждать от будущего. К. Маркс когда-то сформулировал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Нечто подобное, но совершенно иное по тональности, мы находим у Харари: «наука... по определению не берётся предсказывать, как и что будет, - этим занимаются религии и идеологии». (Не будем здесь обсуждать, правильно ли это, и что имел в виду К. Маркс.) При этом, дистанцируясь от религий, Харари не скрывает своих идеологических предпочтений. В результате, в сущности и не скрываясь, Харари превращает свою книгу в своего рода агитку, наполненную идеологическими клише.
Местами, правда, трудно отличить поверхностность от идеологической предвзятости, но, впрочем, нужно ли стараться? На мой взгляд, главное в истории человечества - это самоорганизация, основанная на способности людей приходить к согласию относительно общих ценностей. Сама же система таких общих ценностей есть ни что иное, как культура (её зарождение связано с «когнитивной революцией», но дальнейшая эволюция лишь внешним образом коррелирует с тем, что обсуждается в книге).
Автор же относится к культуре с нескрываемым презрением, квалифицируя её как «миф», «фикцию», «воображаемую реальность», хорошо хоть оговаривается, что все эти термины не тождественны «лжи». В одном месте он выражается предельно откровенно: «...сеть искусственно прививаемых инстинктов называется культурой», что молчаливо предполагает наличие неких высших существ, которые всё же способны к самоорганизации для самих себя и к организации этих самых «прививок» для других.
Формально последняя треть книги посвящена «научной революции». На самом же деле там воспевается капитализм, причём в довольно гнусных его империалистических проявлениях. Рефрен примерно таков: да, гнусно, но выбора нет. Причём делается это совершенно прямолинейно: «увы, похоже, что в сложно устроенном... обществе не обойтись без... иерархий и несправедливой дискриминации», «...можем любить капитализм или нет, - обойтись без него уже не сможем» и, наконец: «Всемирная империя создаётся у нас на глазах, ... этот новый мир окажется подвластен многонациональной элите... Эта империя призывает всё больше предпринимателей, инженеров, специалистов, учёных, юристов и менеджеров [оцените подбор профессий!]. Каждый решает для себя вопрос: откликнуться на призыв или замкнуться в лояльности своему народу и государству, - и всё чаще выбирает империю».
Казалось бы, при чём здесь наука? Но и здесь автор восхитительно прямолинеен; по его представлениям всеми своими достижениями наука обязана исключительно денежным мешкам: «За последние 500 лет наука сотворила немало чудес благодаря готовности различных государственных структур, корпораций, фондов и частных спонсоров вкладывать миллиарды в исследования. Эти миллиарды сделали для картирования вселенной, картографирования нашей планеты и каталогизации животного царства больше, чем Галилео Галилей, Христофор Колумб и Чарльз Дарвин. Если бы эти три гения не появились на свет, их открытия совершил бы кто-то другой...»
Здесь опять же отчётливо прослеживается молчаливая убеждённость автора в наличии неких высших существ, относительно которых невозможно предположить, что они могли бы «не появиться на свет»! Важнее, однако, другое: глупостью является даже не противопоставление «спонсоров» и «учёных», а непонимание того, что миллиарды должны были сначала появиться, прежде чем оказаться в руках «структур» и «фондов». А появились они благодаря усовершенствованиям производственных процессов, которым мы обязаны множеству неизвестных гениев.
На 500 страницах книги можно найти ещё множество подобных чудаковатых заявлений, так что больше не будем о них. В заключение вернёмся к культуре. В одном месте автор рассказывает о «меметике», как о концепции, согласно которой культура - это набор «культурно-информационных элементов», «мемов», передающихся от человека к человеку как «своего рода ментальная инфекция, паразит...». И тут же поясняет: «Большинство гуманитариев относятся к меметике свысока, но привечают её родного брата - постмодернизм. Постмодернисты называют кирпичи культуры несколько иначе - не ''мемы'', а ''дискурсы''».
Вот! Спасибо автору, я наконец-то понял, что означает новомодное слово «дискурс», распространившееся по русскоязычной публицистике со скоростью лесного пожара. Это «кирпич культуры» - умри, а лучше не скажешь! Ведь фокус в том, что люди, пренебрегающие культурой, именно «кирпичами» и мыслят, сами этого не замечая и обнаруживая тем самым свою предвзятость (конечно же, это такой тонкий механизм мести со стороны культуры). Таких кирпичей полно и в книге, успевай только охать.
Вот нужно автору привести пример государств, где «власть до сих пор передаётся от отца к сыну», и что в первую очередь припомнит автор-израильтянин? Своих ближайших восточных соседей - короля Иордании, монархов государств Персидского залива? Нет, это будут, конечно же, «Северная Корея и Сирия».
Нужно привести пример государства, в котором полностью отменены деньги? Легко: «Некоторые общества пытались решить... проблему, создав центральную обменную систему: все сдают в неё свои товары и услуги, а в обмен получают из распределителя то, что им нужно. Величайший эксперимент такого рода проводился - и провалился - в Советском Союзе» (ссылок нет, это же общеизвестный «дискурс»).
Или вот: «Последнюю, и окончательную, Нобелевскую премию мира следовало бы выдать Роберту Оппенгеймеру и его команде, создавшей атомную бомбу. Ядерное оружие превратило войну между сверхдержавами в коллективное самоубийство...». Вопрос: почему Оппенгеймеру, а не Курчатову? Ведь американское ядерное оружие было именно что использовано в отсутствие опасения ответного удара, и только появление такого же оружия в Советском Союзе стало сдерживающим фактором.

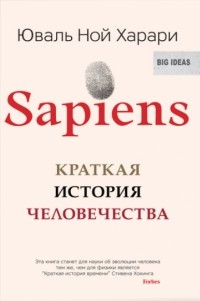
Комментарии
уау! и хватило же вам терпения! Подписываюсь почти под каждым словом. Спасибо за рецензию, очень фундаментальная.
А по поводу того, что кому и почему он доказывает - в Израиле, увы, все больше ужесточается раскол между светстким и религиозным обществом. И он, понятное дело, принадлежит к его светской части.