Больше рецензий
26 января 2017 г. 13:22
1K
4 Эта сложная и иногда деланная красота, которая вырабатывается у цивилизаций очень развитых и очень испорченных (с)
РецензияСамое великолепное, что есть в Бодлеровских "Цветах зла", это Теофиль Готье. То, что сухо названо "критической статьей" больше похоже на стансы или оду, ничего прозаического нет в ней, кроме того факта, то текст написан прозой, она - некая квинтенсенция чувства, при таком вступлении уже невозможно не полюбить Бодлера раз и навсегда, заочно, раз уж о нем так говорят. После этого, конечно, невозможно не улыбнуться, увидев посвящение. Интересно только, Бодлер посвятил свой скандально-славный сборник Готье до или после появления статьи? А, впрочем, неважно.
Что до самих "Цветов зла", то декаденс и романтизм, облаченные в столь строгих рамок форму, мне, скорей из индивидуальных наклонностей, близки не были. Может, дело в переводе, ведь вольный подстрочник Готье зачаровывает:
С высоты своей облачной лестницы луна склоняется над колыбелью заснувшего ребенка, обливая его своим полным таинственной жизни светом и своим светящимся ядом; эту бледную головку она, как фея, осыпает своими странными дарами и шепчет ей на ухо: «Ты вечно останешься под влиянием моего поцелуя. Ты будешь прекрасна, как я. Ты будешь любить то, что меня любит и что я люблю: воду, облака, молчание, ночь, безграничное и зеленое море; воду, бесформенную и многообразную, страны, где ты не будешь, возлюбленного, которого ты не узнаешь, чудовищные цветы, потрясающие волю ароматы, кошек, замирающих на пианино и стонущих, как женщины, хриплым голосом».
В то время, как само произведение, на который оно сделано, такого впечатления не производит.
Да и в целом, раз уж так много говорилось о новых формах Бодлера, то декадантская песнь умирания уже полторы сотни лет, как не нова и даже зная историю сборника, даже принимая во внимание, что для середины ХIХ века - это вызов, сложно испытывать в связи с простой исторической справкой катарсис, что до развращенности: могильных червей в плоти любовниц, смрада города, од сатане и прочего - так я уже развращенный читатель, видевший работы более вызывающие. более шокирующие, в свете последующего ХХ века и его ухищрений декаданс прошлого сам - невинен, подобно отвергаемой им невинности литературы прошлого.
Не о том речь. "Цветы зла" великолепны, просто великолепие их строго схематическое - конечно, той или иной вещью он способен затронуть любого, "Великанша", например,и была моим поводом к чтению всего сборника, а как хороши эти сложные построения с рефренами, вроде:
Ты ночною порой улетала ль, Агата,
Из нечистого моря столицы больной
В бездну моря иного, что блеском богато,
Ослепляя лазурной своей глубиной?
Ты ночною порой улетала ль, Агата?
Но я дилетант невероятный в поэзии, иду наощупь, все больше ориентируясь на некий отклик, эхо, который либо прозвучит, либо нет - и в этом пространстве я заблудилась. Что тут сделаешь?
Прочитано на турнир в "Собери их всех"

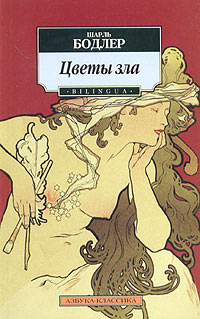
Комментарии
Как строгое великолепие языческого храма?)
Хотя, возможно вы и правы. Но тут итог и пик, пароксизм всего романтизма и желание новых , невозможных вершин, отсюда и почти детский бунт и безбожие.
А "Великанша" чудесное стихотворение! Вообще интересно находить Бодлера в других писателях : Набоков, Андреев...
Ну, с язычеством связать это лично мне сложно, слишком много все-таки религиозного контекста. С попыткой его отрицания, безусловно, но попыткой все же очень строгой, сухой, заключенной в рамки, контекстом этим созданные. Может, дело в переводе.
Да, религиозный контекст важен, как и особая религиозность Бодлера, но она как-то стремится расшатать и разрушить привычное, и словно в стихи "Пиглашение к путешествию", душа стремится выпорхнуть туда, где природа - храм. Опять же, это тоска по идеалу, потому и такой аскетически-строгий стиль и рамки.
Да, тут вы правы, переводы есть разные. Мне очень нравятся Эллиса.
Все это свойственно романтизму в целом - и "Приглашение к путешествию", кстати, одно из особенно свободных для восприятия, не таких - тяжеловесных, что ли? - его стихотворений. Вопрос в отношении к самому романтизму, к аллюзиям его, к буре и натиску, конфликту гениального одиночки с законом людей и к тем формам и формальностям, которые он унаследовал от классицизма, а здесь уже включается чистая субъективность, так мне все же ближе игра ХХ века не только с формой, но и с лингвистикой, абсолютная свобода действия того же ОБЭРИУ (а гениальный одиночка и закон людей здесь ещё острее, уже просто по историческим фактам).
Невозможно отрицать исключительную важность "Цветов зла" для развития литературы, но мной они воспринимаются скорей как памятник монументальный, тяжелый, отделанный позолотой и бог знает чем ещё - и только в четверти (даже меньше, одной пятой или шестой) стихотворений из сборника начинает вдруг раскручиваться что-то ещё, что-то живое. И вот памятник встает на мгновение, как Командор, подмигивает и вновь застывает в неподвижности. А какие-нибудь Хеминес и Лорка всегда живые.
Черт, вторую рецензию почти пишу)
Ну да, "Приглашение" читается очень легко и ... светло. Но вы ведь понимаете, что оно не так просто. И не случайно Набоков обыграл его в названии и сути своего "Приглашения на казнь".
Вы правы, что и романтизм и символизм ( впрочем, и реинкарнация этих понятий в экзистенциализм и т.д.), близки к натиску, бунтарству, к стремлению к идеалу. Но в символизме усталость пожирает себя, и чувства порой плутают в построенных душой лабиринтах аллюзий и символов. Бунт против материи, плоти? Да, но судорожная грешная любовь к ним. Уловить тени нездешнего на земных запахах, звуках и цветах... Иногда от этого устаёшь. Лорка и Хименес? Обожаю их! Лорка, Есенин, Фрост, Пастернак... ведь и они чувствовали эти тени нездешнего, просто они дали им свободу, и освободили... нет, скорее повенчали нездешнее и земное, описывая каждый миг как чудо и дар, как рай, а не его отблеск.
P.s. хорошее такое у Вас вышло дополнение к рецензии)
Спасибо, и у вас)
Спор о романтизме можно продолжать вечно, но к общему знаменателю так и не прийти - очень уж у него бескомпромиссная внутренняя философия, вызывающая, в чем-то неловкая до грубости, и вправду какая-то "судорожная". Символизм все-таки как-то рефлексирует свою около-смерть, играет с нею, и так хороша в нем подмена пространства, что и высокопарность не вызывает раздражения.
Ох, в общем на вкус и цвет все фломастеры разные, а культурологические пласты, доставшиеся нам в наследство, широки и необъятны - все равно во всем совпасть невозможно)
Хорошие вы подобрали "фломастеры" в комменте)
Нет, честно, романтизм, как и символизм, вечно двоится, мечется между дьяволом и богом, небесным и земным. Можно сказать, что они буквально и на судьбах поэтов и в их словах отражают известные слова Достоевского о "дьяволе и боге, что борются в сердце". Да и высокопарность-тут вы тоже правы,- кажется тавтологической косвенностью, если учитывать на каких высях парят чувства символизма и романтизма.
Касательно переводов, кстати, у Элисса рефрен "Приглашения к путешествию" приятней звучит, но подстрочник, приведенный в "Абсолютном стихотворении" сильнее и емче (да это касается и всех подстрочников, на мой взгляд, многие вещи просто невозможно перевести на русский хорошо)
Приглашение к путешествию
Дитя моё, моя сестра, подумай, как сладко уехать, жить вдвоём! Любить на воле, любить и умереть в стране, похожей на тебя. Влажные солнца этих переменчивых небес — в них для меня столько же загадочной прелести, как и в твоих неверных глазах, сияющих сквозь слёзы.
Там всё — красота и лад, роскошь, тишина и нега.
Блестящая, отполированная годами мебель украсит нашу комнату; невиданные цветы, чьи запахи смешаются с ароматом амбры, резные потолки, бездонные зеркала, восточное великолепие — всё будет тайно говорить душе сладостным языком родины.
Там всё — красота и лад, роскошь, тишина и нега.
Видишь — на этих каналах дремлют корабли, их тянет странствовать; готовые исполнить твою малейшую прихоть, они отправляются на край света. Закатные солнца одевают поля, каналы и весь город гиацинтом и золотом. И мир засыпает в теплом сиянии.
Там всё — красота и лад, роскошь, тишина и нега.
Перевод Эллиса чудесен, но в голове звучит музыка образов перевода Мережковского, хоть там он и несколько отошёл от оригинала. Говорите, что подстрочник ёмче и лучше? Так буквализм подстрочника всегда лучше, но он утрачивает инерцию и волшебство ритма. Скажу больше : поэзию вообще почти невозможно перевести на другие языки) Хотя, в русском языке отразился гений и Бодлера и Рембо, даже Лорки и По. А вот что стало с волшебным русским стихом в других странах ? Там знают как правило наших писателей, но не поэтов. Наша поэзия в этом смысле непереводима, и Пушкин на том же французском ( я уже не говорю о Есенине и Цветаевой), звучит почти лубочно просто и плоско.
Это вообще вечная тема для дискуссии ( фломастеров-мастеров всего мира не хватит!!)) . Как следует переводить ? Держаться буквализма или ритма и образа? Знаете, есть гений перевода, и он бессознательно чувствует то, как рождался стих оригинала, какие возможные варианты были в голове у поэта, и он следует этим "черновым", непроросшим мыслям и образам поэта. Я вообще часто воспринимаю хорошие переводы как импровизацию в той же мере, как есть дивные импровизации Шопена, Листа... А вообще есть любимые мной сборнички, в которых одно стихотворение приводится в нескольких вариантах : это как переворачивать на свету бриллиант, видя радужную игру света на гранях стиха.
Вот любопытное сравнение стиха Бодлера "Плавание"
Посмотрите, как отступив от оригинала в начале, дивно заступив в страну своего творчества, Цветаева одна из всех подметила - и как тонко!,- память очей, которые есть и в оригинале.
А в переводе Ламбле чувствуется известное место из "Годунова", когда маленькому царю показывали карту. Тоже чудесный блик и сопряжение, взаимопроникновение культур.
Дитя, влюбленное и в карты и в эстампы,
Чей взор вселенную так жадно обнимал, —
О, как наш мир велик при скудном свете лампы,
Как взорам прошлого он бесконечно мал! (Эллис)
.................................................................................
Когда дитя глядит на карты и эстампы,
Вселенная вместить способна идеал.
Как велика земля при ярком блеске лампы!
При свете памяти как мир ничтожно мал! ( Ламбле)
.................................................................................................
Для отрока, в ночи глядящего эстампы,
За каждым валом — даль, за каждой далью — вал.
Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!
Ах, в памяти очах — как бесконечно мал! ( Цветаева)
Комментарии, превышающие рецензию многократно хдд
Да, сравнивать переводы бесконечно сладко и согласна с тем, что это всегда именно импровизация на тему (а тот же "Плач гитары" никто не способен перевести лучше Цветаевой, спасибо, что упомянули её, ей же, кстати, принадлежит эссе-сравнение подстрочника Гёте и перевода Жуковского "Лесного царя". До него меня занимала разница переводов, но после подстрочники победили, возможно, дело просто в моей тяге к прозе в большей степени, чем к поэзии).
Переводы шекспировских пьес, опять же, можно обсуждать бесконечно долго, потому что у каждого свои достоинства и недостатки (хотя есть переводы сплошь состоящие из недостатков, конечно, но это уже другая история).
Мне кажется, охватить все невозможно, чем-то все равно жертвуешь - и я все-таки за полное сохранение авторской метафоры вне навязанного русским при переводе ритма.
Попытаюсь быть "талантливым", т.е.- кратким)
Возможно ваша тяга к прозе и голому костяку истины, влечёт вас именно к подстрочнику и точности рисунка образа ( и в этом вы близки к Набокову). Если не ошибаюсь, то он говорил, что переводы Жуковским Шиллера, лучше оригинала.
Да, я тоже за полное сохранение авторской метафоры, но.. чёрт побери, если удались 2-3 точных перевода, как же приятно читать дивную импровизацию на этот стих, где он дышит по новому и новым, новой культурой, языком!!