15 апреля 2025 г. 14:17
54
4 Мысли воцерковленного человека, живущего в атеистическом государстве
«Люди ищут Бога. И всегда будут искать. Потому что можно убить человека, можно убить целый народ, но нельзя убить идею Бога. Люди ищут путей общения с Ним. В один прекрасный день огонек веры затеплился в душе молодого — или не очень молодого — человека. В этот счастливый день он начинает понимать, что без Бога жизнь — бессмыслица».
Алексей Пантелеев- Еремеев (Л. Пантелеев) - автор «Республик ШКИД», советский писатель. Эта книга открывает его совершенно с другой стороны. Эта книга-дневник, книга-исповедь глубоко верующего православного человека. Автор завещал опубликовать ее только через три года после своей кончины. Интересно, что проживи он сам эти три года, он бы увидел, как все изменилось в отношении религии к 1990. Впрочем, не все изменения его бы порадовали.
Условно эту книгу я разделила бы на две части. Первая, как я уже и сказала – это исповедь. Настоящая, искренняя исповедь. Автор вспоминает свою жизнь, свое отношение к церкви, он не скрывает даже тех моментов, за которые ему особенно стыдно. И это написано просто невероятно искренне. Я видела человека, который не хочет сознаваться в плохом (как и все мы), но делает это, потому что исповедь не терпит утаивания.
В этой же части Пантелев рассказывает о других деятелях искусства, которые даже в то тяжелое для религиозного человека время, продолжали верить в Бога. Это Шварц, это жена Маршака, которая никогда не скрывала своей веры, Вера Панова, которая ее обрела позже, академик Павлов, который стал заступником Знаменской церкви, которую посещал (после его смерти храм закрыли), это сам Маршак, который всю жизнь хранил Псалтирь, и многие другие. Интересно было и то, как переплетались судьбы этих людей. Как тот же Сергей Лобанов помог Зощенко.
Мне очень понравилось начало. Воспоминания о посещении храма в детстве напомнили чем-то Шмелева. С большим теплом описана мать автора, которая была для него главным христианским примером. Интересно было читать мысли верующих людей о Ксении Петербургской до ее канонизации. Понравился факт с миндальным молоком. Почему-то мне всегда казалось веянием сегодняшнего дня добавление различных увкуснителей и заменителей в еду в пост, оказывается и до революции спокойно заменяли обычное молоко миндальным.
Почему-то я не знала (или забыла), что на похоронах Ахматовой был священник, была панихида. Интересно было и отношение к баптистам в начале становления СССР. Они могли отсидеть три года за отказ участвовать в военных действиях и после этого получить белый билет.
Вспоминает автор и про перепись 1937 года, в которой нужно было указывать вероисповедание. И тогда, в это тяжелейшее время многие люди, в том числе и автор, говорили, что они православные. Позже перепись была признана недействительной.
Когда читаешь эти очень осторожные размышления о будущем церкви, написанные в 1978 году (кажется, сколько там осталось до свободного посещения храмов), понимаешь, насколько все было по-другому. То, к чему мы привыкли сейчас, автору казалось «сном наяву». Он даже не мечтал, а просто восхищался, что в ГДР на Рождество выходной, а в Венгрии можно в школе говорить о Боге (притом Пантелев был категорически против насильственного изучения религии в школе, это должно идти из семьи, считал он), восхищали его и храмы при больницах.
Интересны были размышления о религиозности Пушкина и Достоевского, очень много уделено внимания дневникам жен Толстого и Достоевского.
Отдельно стоит отметить выдержки из ленинградского блокадного дневника. Остаться там незаконно, вообще не получать хлеб и выжить – это, действительно, чудо. Вот здесь мне очень хотелось почитать подробности. В том числе и о матери и сестре автора. Выяснила, что умерла мать в 1949. О том, что ее тоже перевезли на большую землю, информации я не нашла. Думаю, что все ж выживал в том числе и за счет их пайка, но этим моментом автор вообще не поделился.
Теперь о минусах.
Если начало для меня было стопроцентным попаданием, то дальше автор подзабыл, что пишет книгу и начал просто вести дневник. Он пишет о новостях, которые слышит, о книгах, которые читает. При этом очень часто повторяется. Некоторые мысли дублируются почти дословно. Понятно, что возможно, позже это все бы доредактировалось. Но возраст и специфика книги не позволили доработать ее. В результате читателю приходится знакомиться как с интересными выдержками из дневников Достоевской (факт про не курение в храме из уважения к писателю удивил меня, как и Пантелеева), Толстой, Пушкина, так и менее интересными статьями из «Комсомолки», размышлениями о ситуации в Иране и Хомейни, слушать пространные оды Иоанну Павлу II и Солженицыну. Я нисколько не отказываю автору в своем мнении, но т. к мне не близки экуменистические взгляды, и я не испытываю такого восторга по отношению к Солженицыну (а вот эта мысль меня даже удивила: «Когда-нибудь кто-нибудь проведет опрос верующих, поинтересуется: что привело этих людей к Богу? Уверен, что немалый процент опрошенных, пришедших (или вернувшихся) к православию в шестидесятые — семидесятые годы, сошлется на А. И. Солженицына»), вторая половина книги была для меня значительно менее интересной.
В любом случае, я читала книги того времени об этом же вопросе от лица священства, а вот взгляд мирянина на те же моменты был очень интересен. Отдельное спасибо за трогательную искренность начала книги. Это была настоящая исповедь.
Упокой, Господи, душу раба твоего Алексия.
И много цитат, которые так или иначе заинтересовали.
«Брали тогда — и сейчас берут — не за то, что молились, а за то, что собираются. За участие в сообществе, за проповедь, то есть за пропаганду религиозных, а следовательно, и непременно антисоветских взглядов. За то, что не ставили свечу под кроватью».
«Да, тот анекдот я много раз слышал. Иван Петрович Павлов выходит из Знаменской церкви, крестится. Мимо идет красноармеец. Усмехнулся, покачал головой: — Эх, серость!..»
«Никогда, ни в детстве, ни в молодости, ни в зрелые годы не интересовала меня личность церковнослужителя, его домашняя жизнь и вообще жизнь его в миру, за стенами храма. Как не интересовала его внешность, его голос, его характер… Когда мне говорили (или говорят): — Да, конечно, без религии нельзя, но — попы… — Что «попы»? — отвечаю я. — При чем тут попы? У меня нет времени и желания глазеть, приглядываться, рядить и судить духовных отцов. В церковь я прихожу для молитвы… Только холодный сердцем, только неверующий или слабо верующий человек обратит внимание на грубость, на небрежность, на красный нос или излишне выпирающее брюшко батюшки».
«Кажется, еще Шульгин писал, что православная церковь навсегда останется тем островом, где отдохнет русская душа. Добавлю — где бы она ни стояла, эта церковь».
Совершенно удивительный отрывок. Я точно знаю ситуации сейчас, когда все происходит ровно наоборот:
«Знакомая семья. Покойный дед Саши — коммунист с 1918 года. Отец — тоже член партии. Мать умерла, когда мальчику было два или три года, а сестренке его четыре. Отец женился, воспитывала ребят бабушка, «комсомолка двадцатых годов». И вот эта бабушка встречает мою жену и жалуется: горе у нее. Саша, член ВЛКСМ, комсорг группы, сбился с правильного пути, стал ходить в церковь, носит на шее крест, повесил у себя над кроватью икону, да еще лампадку зажигает…
— Но ведь вы же знаете, что это такое! Ведь его же за такие дела из комсомола могут погнать, из института… Плакала, жаловалась, что всегда была дружна с мальчиком, пользовалась его полным доверием — и вот все насмарку. — Как чужие стали! Уж я его и так и этак. А он: «Бабушка, ты человек темный. Ты ничего не понимаешь в подобных вещах». Это я-то — темная!»
«Запомнилась такая справка: к религии обращаются главным образом интеллигенты и чаще не гуманитары, а молодые физики и вообще люди, причастные к так называемым точным наукам. Вспомнилось и другое, читанное или слышанное. Кто-то из крупных физиков (а может быть, и не физик, не помню) сказал, что современный ученый, отрицающий идею Бога, — или не ученый, или плохой ученый, или непорядочный ученый».
«А судомойка сказала бы, а может быть, и сказала, и даже уверен, что сказала: директору, или парторгу, или какому-нибудь своему непосредственному кухонному начальнику. И ничего ей не сделали. С кадрами у нас туго. С лингвистами и фольклористами еще туда-сюда, а попробуй найди судомойку, или уборщицу, или санитарку… Библиотекаршу — ту не держали бы, если бы крестилась, а судомойку — что ж: наша советская, самая демократическая конституция обеспечивает гражданам свободу совести!..»
Кто бы мог подумать, что уже тогда был дефицит такой кадров в неквалифицированных отраслях.
«Говорят: можно верить в Бога и не ходить в церковь. Можно, разумеется. Но если не ходишь, значит, ее отрицаешь. Не признаешь ее нужность. А кто же тогда научит и где научат? Законам Господним. Молитве. Даже самое слово Бог откуда тогда возьмется?»
«Наступление немцев на всех фронтах привело к отступлению Сталина на фронте его борьбы с религией».
П.С Странно видеть на обложке именно «Леонид Пантелеев», даже не просто «Л. Пантелеев», учитывая, что автор отдельно пишет, что ему не нравится, когда его так называют. И изначально в "Республике" было просто «Л.»

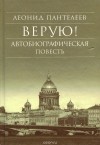
Комментариев пока нет — ваш может стать первым
Поделитесь мнением с другими читателями!