Больше рецензий
9 сентября 2024 г. 15:18
192
3 После Освенцима нельзя писать стихов
РецензияЧерт меня дернул приступить к запискам Андроникова сразу после "1984" Оруэлла. После описаний ужасов тоталитаризма сложно непредвзято воспринимать эти уютные рассказы о советском интеллигенте, у которого, кажется, и забот-то более важных нет, чем выяснить, вот этот портрет - он Лермонтова или нет? В процессе своего расследования Андроников выясняет, что портрет принадлежал семейству некого действительного статского советника Владимира Карловича Вульферта, и отправляется на поиски семейства Вульферт, обтекаемо упомянув, что, дескать, мало ли, что там с ними могло произойти с 1928 года. Я, я вам скажу, что с ними могло произойти, я специально поинтересовалась. Сам-то Владимир Карлович умер еще в 1906, а двое его сыновей в 1937 году расстреляны по ложным доносам. Андроников же таки находит сына одного из этих двоих. Тот работает инженером, все у него замечательно, матушка - вдова расстрелянного "врага народа" - такая позитивная, и все так душевно встречают незнакомого литературоведа, трогательно помогают искать портрет, я прям не могу. Репрессированные, естественно, не упоминаются ни словом, ни полсловом. И вот, с одной стороны, конечно, книга не об этом, и, конечно, люди спустя столько лет после семейной трагедии могли все пережить, оставить позади и увлеченно беседовать с Андрониковым о грузинском театре и переживать за судьбу пропавшего портрета. А с другой - лезет в голову мысль, сколько еще таких Вульфертов, не говоря об Ивановых, Петровых и Сидоровых, было походя раздавлено государственной машиной, и не плевать ли на этом фоне тридцать три раза, Лермонтов изображен на этом портретике или какой-то другой безвестный офицер? Да, жизнь продолжается всегда, и можно, споря с Теодором Адорно, писать стихи после Освенцима, и можно гореть биографией Лермонтова после Большого Террора. Но при этом спрашиваешь себя: екнуло ли у Андроникова (которого и самого по касательной задели репрессии) хоть что-то в груди при написании этого очерка, или его внутренний Уинстон Смит уже окончательно усвоил двоемыслие?
UPD:
Да, точно усвоил. И двоемыслие, и технику самостопа.
В очередном очерке речь идет о бесценной коллекции автографов русских писателей и исторических деятелей, собранной Александром Бурцевым. Бурцев и его коллекция в кругах, где вращается Андроников, овеяны легендами. Значит, он не может не знать о высылке всей семьи Бурцевых из Москвы в Астрахань и о расстреле самого А. Е. Бурцева в 1938 году по ложному обвинению. И, скорее всего, энтузиаст-библиофил Бурцев энтузиасту-литературоведу Андроникову, происходящему из дворянского рода, духовно вполне близок - уж всяко ближе, чем колхозный дед из другого очерка, который водит экскурсии к могиле Лермонтова и травит там политически верные байки про то, как "Михал Юрич" обожал тусоваться с крестьянами и слушать народные песни.
Однако, говоря о дочери Бурцева, желающей после всех пережитых мытарств продать отцовский архив государству (отец в очерке просто где-то сам умер и растворился между строк), Андроников сдержанно ее покусывает, намекая, что, дескать, и к коллекции, которая, хоть и находится в ее личной собственности, все-таки представляет собой народное достояние, она относилась недостаточно бережно, позволила себе во время войны половину где-то профукать, да и вообще порядочные-то люди такие вещи передают Советской Родине в дар, а не крохоборничают и не высчитывают стоимость каждой бумажки. Впрочем, в целом Андроников ее описывает с долей симпатии, а вот Чуковский в предисловии проявляет бОльшую сознательность и отвешивает "черствой мещанке" Бурцевой хорошего пинка. Короче, старомыслы наконец научились нутрить ангсоц.
Если отвлечься от политики - да прекрасные очерки, и человек прекрасный, делает важную работу, получает от нее наслаждение и интересно об этом рассказывает. Как говорится, ноль процентов осуждения, сто процентов понимания. Только с учетом того, что поиски сведений и документов о русских классиках то и дело сводят его с людьми из той категории, что после Октябрьской революции была как минимум поражена в правах, а как максимум попала под каток репрессий, отвлечься бывает сложно. Незамутненное удовольствие можно получить только от отрывков, посвященных непосредственно девятнадцатому веку, но для человека, привыкшего к современному научпопу, и они кажутся пресноватыми.

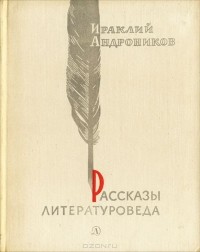
Комментарии
Из книги Томаса Манна "Я не попутчик":
Томас Манн 1950 г, о США:
"- Ужас и дурнота. Порядки в этой стране явно не для меня, но не хочу и думать о том, чтобы расстаться с домом, да и нельзя забывать об уважении, даже популярности, которой я здесь всё-таки пользуюсь".
3 февраля он начал читать "1984" Д. Оруэлла, но понял, что его нервы [очень плохо переносят вымышленную реализацию уже существующего].
А при чем здесь, собственно, США? Я там не бывала, историю этой страны знаю не слишком хорошо. Возможно, сами американцы и имеют что сказать по этому поводу. Да и из цитаты Манна никак не следует, что порядки в США ему не понравились не сами по себе, а хоть в какой-то связи с "1984". Думаю, у человека, эмигировавшего из фашистской Германии, все-таки было с чем проассоциировать эту книгу и помимо Штатов.
Всего хорошего.. и доброго вам :)