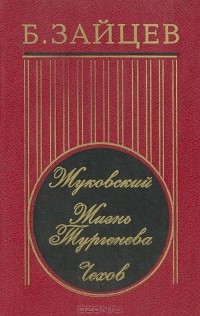Больше рецензий
16 ноября 2014 г. 15:52
2K
4.5
РецензияБывают биографии фундаментальные – большой учёный разбирает героя по косточкам, а потом по его книге студенты пишут рефераты. Бывают биографии пристрастные – автор ищет скандальных подробностей или, напротив, выступает апологетом известного деятеля. Наконец, литературные жизнеописания предполагают вольный стиль обращения автора со своим героем, иногда романтизацию образа, порой полный пересмотр, когда от реальной личности не остаётся ничего, кроме нужных для биографа штрихов. Склонные к фантастичности мышления писатели Серебряного века создавали биографии на стыке с очерком о творчестве: для них самих литература всегда была самой жизнью, и они смело распространяли свои принципы на классиков и старших современников. В этом смысле три небольшие вещи Бориса Зайцева (1881-1972), удачно собранные под одной обложкой, типичны по форме – это свободный биографический очерк, – но отличаются акцентом на личности писателя, а не анализом его творческого наследия. Оно и понятно – Зайцев прямой наследник тургеневской литературной традиции, а с Чеховым и вовсе встречался лично, – излишний пиетет здесь неуместен, зато очевидны глубокое уважение и сочувствие великим учителям.
Жуковский, Тургенев, Чехов – почему именно они? На первый взгляд кажется, что общего между ними мало. Первый – поэт, высокопоставленный придворный, блестящий переводчик; второй – великий романист, эмигрант, западник; третий – из купцов, мастер малой прозы, драматург-новатор. Почти наверняка, они друг с другом не встречались, и уж конечно, нет речи о взаимовлиянии. Однако, стоит присмотреться поближе, вчитаться, и проявляется нечто единое: объективное для русской литературы и субъективное, важное для самого Зайцева.
Из того, что лежит на поверхности, – особое место каждого из писателей как некоего эволюционного звена в истории литературы. Жуковский как один из создателей классической дворянской поэзии, Тургенев – олицетворение русского барина с его дикостью и сентиментальностью в жизни и романах, наконец, Чехов, свидетель увядания великой традиции и конца “усадебной” культуры. Три жизнеописания, поставленные в ряд, три разные эпохи и неумолимый бег к известному финалу, в котором Борису Зайцеву придётся покинуть новую Россию. Что же привело к такому исходу? Ответы не даются напрямую, их нужно искать в намёках, проговорках и небольших авторских отступлениях (разумеется, на конечную истину биограф не претендует). Во-первых, с каждым поколением слабеет и исчезает религиозное, метафизическое измерение литературы: от “естественного” православия Жуковского к мистицизму позднего Тургенева и простой вере в человека в чеховских “Дуэли” и “Архиерее”, церковь изгоняется, как ненужное препятствие к познанию себя. Во-вторых, столь же ослабевает связь поэта с властью, исчезает необходимость в покровительстве, отмирает самоцензура: Жуковский был воспитателем будущего Александра II, но уже тургеневское поколение мало соприкасалось с государством, а чеховское – прямо противостояло режиму и выбирало повседневную борьбу или философию всеединства. Отсюда и третье – литература, превзойдя по влиятельности официальную идеологию, стала творить уже собственные типы, “новых людей”, поначалу немногих разочарованных байронитов, затем Базаровых, а уже перед концом – знаменитую чеховскую интеллигенцию и её антиподов Лопахиных. Зайцев близко подходит к мысли о своеобразном самоубийстве русской классической литературы, но, конечно, не проговаривает её, осознавая себя последним приверженцем традиции.
Своеобразный пессимизм биографической трилогии заметен ещё сильнее в зайцевском восприятии личностей трёх классиков – это люди, сознательно отказавшиеся от личного счастья. Любовь Жуковского и Маши Протасовой так и осталась романтической легендой, в которой брак невозможен, возлюбленная умирает молодой, а поэт записывает: “Жизнь - не для счастья: в этой мысли заключается великое утешение”. Ещё известней платонический роман Тургенева и Полины Виардо, в котором русскому писателю была отведена роль восторженного обожателя, а французской певице – недостижимого идеала. Исход предсказуем: “Я не рассчитываю более на счастье для себя, т. е. на счастье в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами”, – это уже из писем Тургенева, не достигшего и сорокалетия, но уже всё понявшего. Особенно замечателен Антон Павлович – тот, кажется, любовью и браком не интересовался вовсе, и страстно обожавшую его Лику Мизинову уступил другому: ведь Сахалин важнее дома с мезонином, а долг значительней благополучия. Вместо страстей – тихая грусть и меланхолия, вместо порывов – ностальгия и сентиментальность, и стиль Зайцева, давно утраченный музыкальный слог русской прозы, здесь абсолютно органичен и совпадает с материалом. Вот, например, о поздних годах Тургенева:
Во всяком случае, в полубольном, старом и горестном Тургеневе достойна всяческого уважения черта сочувственности к людским бедам, не отталкивания. Уже одно терпение, с каким он слушал! То, что находил время поехать попросить и поклониться. Что читал бесчисленные безнадежные рукописи, писал мягкие письма, искал работу, устраивал больных в лечебницы, давал деньги на школы, возился с литературно-музыкальными утрами в пользу нуждающихся, учредил первую в Париже русскую библиотеку — не так уж это мало, и не так похоже на писателя “европейского”.
Соединяя очень личный взгляд автора на жизнь трёх писателей с глубокими размышлениями о русской культуре, три биографии Зайцева могут увлечь как тех, кто случайно взял книгу в руки (захочется перечитать классику), так и тех, кто регулярно обращается к литературе позапрошлого века и “всё про неё знает” (никогда не помешает новый взгляд). Эта книга не приговор и не апология, а скорее указатель для захватывающего пути, небольшая остановка на трёх разных дорогах, вроде городка Баден-Баден, где играл в рулетку Тургенев, лечился Чехов и скончался Жуковский.