Больше рецензий
26 ноября 2023 г. 11:45
195
5 «Русский человек» как профессия
РецензияКуняев С.Ю. Терновый венец России. От Есенина до Рубцова. –– М.: Вече, –– 2017. –– 544 с., ил. –– Тираж 1000 экз.
Станислав Юрьевич Кунев (р. 1932) благополучно дожил до глубокой старости: сегодня ему 90 лет, и не далее как завтра, 27 ноября 2023 г., исполнится 91 год. Этот человек –– удивительный реликт советского прошлого: довольно известный (в своё время) поэт, член КПСС с 1960 г., литературный чиновник номенклатурного уровня и общественный деятель со скандальной репутацией. Он общался с очень яркими людьми, даже с Катаевым и Симоновым был знаком, не говоря уже о литераторах меньшего калибра... Наверно, много интересного может рассказать?
С такой надеждой открывал я его книгу. Но автор с первых строк меня огорошил:
Я имею честь принадлежать к той породе русских людей, о которых Аллен Даллес, изложивший в конце Второй мировой войны программу планомерного уничтожения России и русского народа, с высокомерием писал: «И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества».
Если автор начинает с цитирования давно разоблачённой фальшивки, возникает вопрос: надо ли продолжать чтение его книги? Хорошего ожидать не приходится... Но я сделал над собой усилие и решился дочитать хотя бы вводные абзацы. И на этих двух страницах автор сумел меня убедить, что продолжать чтение стоит. Вам, друзья, будет проще принять решение: я подробно расскажу об авторе и его общественно-политических взглядах, по возможности избегая полемики, а затем дам обзор содержания книги по главам.
В молодости Куняев увлекался лёгкой атлетикой и всю жизнь гордился тем, что остаётся в приличной форме. Конечно, он выгодно смотрелся на фоне болезненных и хилых собратьев по перу, вроде Шкляревского:
Я чувствовал, с каким пристрастием, с какой ревностью он восхищался моей двужильной выносливостью, неприхотливостью, уверенностью в себе...
(с. 522)
Станислав Куняев в молодые годы
А какая устойчивость к выпивке! Литературная богема советских времён не мыслила жизни без ресторана ЦДЛ, без водки, без пьянки. Вечное «Стась, давай напьёмся!» (с. 128). Вот характерная сценка: одному поэту так не терпится выпить, что он лезет за водкой без очереди, с очевидной опасностью схлопотать по мордам –– лишь бы заполучить «заветную бутылку» (с. 117). Другой поэт заблевал в гостях дорогой ковёр (с. 174). Третий, особенно крепкоголовый, «разбил головой писсуар в уборной Дома литераторов» (с. 178). Ну, а где пьянки, там и драки. Дерутся все: и сам автор, и его друзья; дерутся и друг с другом, и с третьими лицами (с. 118, 130, 131, 520, 521); драка в такой степени норма богемной жизни, что даже и в стихи попала (с. 516). Забавно, что все эти безобразия Куняев и его дружки проделывали, «ощущая себя русскими патриотами и государственниками» (честное слово, так и написано: с. 117, внизу). А в промежутке между пьянками они кого-нибудь принимали «в пантеон русской классики» (с. 120).
Эпизодически такое времяпровождение Куняеву надоедало, и он, свободный как ветер, уносился то в тайгу, где с местными мужиками рыбачил, охотился на рябчиков и «добывал соболя», то на Кавказ, то в Среднюю Азию... Отчего ж и не путешествовать русскому поэту, если водку в СССР можно достать везде? Даже и в высокогорном кишлаке на юге Таджикистана!
... Один за другим в чайхану сошлись местные учителя. Их здесь много –– двадцать человек. В Гелене из тысячи шестисот жителей –– тысяча голов детей! У одного Изатулло восемь человек...
Нам захотелось водки, и мы спросили её у чайханщика. Он принёс бутылку и стопки. Мы разлили водку, предложили учителям –– те вежливо отказались.
(с. 483)
Вот так ведут себя два русских атеиста среди мусульман-таджиков где-то около 1970 года. Они везде чувствуют себя как дома, эти два гражданина великой Красной Империи. «Империя! Я твой певец...», провозгласит Куняев в стихах (с. 486). И он же будет искренне удивляться, когда в 1990 г. лично известный ему таджикский поэт, который раньше был тише воды и ниже травы, станет «одним из уличных вождей националистической черни» и потребует, чтобы «русские пьяницы убирались с его земли».
Впрочем, вернёмся в счастливые для автора годы.
Литературное познание мира обычно сливалось для меня в одно целое с моим образом жизни, когда в течение четырёх лет, с 1968 по 1971 год, я бродил с геологами по высокогорным тропам, глядел на голубые сверкающие стремнины –– Ягноба, Хонако, Кафирнигана, где плескалась форель, куда со звоном срывались истёртые подковы моих лошадей, где я на скалистых прижимах встречался с таджикскими детишками, погоняющими осликов,нагружённых охапками хвороста...
(с. 507)
Четыре года с геологами на Памире! Геологи заняты своими делами, а ты –– поэт; ты праздно любуешься природой и впитываешь впечатления, которые со временем отольются в стихи! Здесь прямо завидки берут: их мало, избранных, счастливцев праздных... единого прекрасного жрецов...
Стоп! А единого ли прекрасного? Или чего-то ещё?
Да, есть у Куняева и второе жреческое служение, причём явно более важное для него, чем поэзия: он говорит о нём с таким пафосом,который имеет даже комический оттенок. И он сам это чувствует:
Да не покажется то, что я сейчас скажу, смешным, но с конца шестидесятых годов я окончательно понял, что моё будущее ––это борьба за Россию.
(с. 129)
Ну, если он борец за Россию, то надо нам знать, какой ему видятся Россия и её историческая судьба. И вот тут обнаруживаются столь странные понятия, которые, на мой взгляд, только поэту и простительны.
Что такое тоталитаризм? Это мобилизация всех сил. Это подчинение личной воли –– народно-государственной необходимости, это табу на все излишества, варианты, версии, эксперименты в материальной и культурной жизни. Это ограничение права во имя долга.
(с. 309)
Можно подумать, что он говорит о советском периоде, что это у него такая апология всевластия КПСС. Однако в следующем абзаце речь идёт о мобилизационном напряжении «на протяжении сотен лет» (то есть это абрис всей русской истории). Больное место здесь в том, что «табу на все излишества» никогда не распространялось на правящий слой (относительным аскетизмом отличались только большевики времён партмаксимума). Раннее советское общество быстро эволюционировало, и очень легко найти аналоги бар и крепостных в той социальной структуре, которая сформировалось в СССР между 1929 и 1932 годами. Сам Куняев, этот «певец империи» –– вполне типичный советский барин, ведущий праздную жизнь; глядя со своей номенклатурной колокольни, он вполне уверен, что к середине 1970-х годов советское общество, благодаря «подвижническому труду нескольких поколений», достигло мыслимого идеала (положение народа он деликатно характеризует как «скромное и надёжное благополучие», с. 310). Бытие определяет сознание:
Помню, в ту эпоху я часто работал зимой в Домах творчества –– в Дубултах, в Малеевке, в Ялте... Дома писателями не заполнялись, а потому отдыхать туда приезжали шахтёры, думаю, думаю, что в среднем они были не беднее писателей, ибо наши дома сотрясались от веселья и разгула этих денежных, крепких, умеющих работать и гулять людей.
(с. 310)
В общем, всё было бы к лучшему в этом лучшем из миров. Вот только евреи... Ох уж эти евреи, вечные возмутители спокойствия (и вечные конкуренты в борьбе за тёплые места)... И ведь сколько о себе понимают!
Я помню, в какое бешенство я пришёл, прочитав исповедь какого-то полупоэта, полупублициста Б. Хазанова (Файбисовича), эмигрировавшего в начале 70-х в Европу. Он плакался об утрате России такими словами: «Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы её наследники, пусть оскуделые и полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских».
Куняев не даёт никаких ссылок, поэтому точность цитирования на его совести. А фамилию цитируемого автора он безусловно переврал: под псевдонимом «Борис Хазанов» писал Геннадий Моисеевич Файбусович (1928—2022), плодовитый прозаик, а не поэт; персонаж интереснейший, в отношении менталитета и биографии прямо-таки эталонный для своего поколения еврей. Ничуть не удивительно, что его наглая декларация привела русопята Куняева в бешенство. Странно другое: Файбусович ведь эмигрировал в Германию, и этому вроде бы надо радоваться: нет в России евреев –– нет и еврейского вопроса (что бы под этим ни подразумевалось). Но, оказывается, Куняев недоволен и евреями-эмигрантами! Евреи должны оставаться здесь и ассимилироваться, как завещал им великий Ленин. Но что-то не захотели... А между тем они занимают, на протяжении многих десятилетий, ключевые позиции в культурной жизни страны. Куняев полагает, что такое положение нетерпимо, и «должна идти реконкиста» (с. 212). Что будут делать в России евреи в случае победы «реконкисты», его уже не интересует.
А вот еврейская реакция на самое скандальное выступление Куняева, где он жёстко прошёлся по творческому наследию Эдуарда Багрицкого (дискуссия «Классика и мы», 21.12.1977).
Израильский журнал «22» посвятил в 1980 году нашей дискуссии целый номер. Из статьи В. Богуславкого «В защиту Куняева»: «Главарями Октябрьской революции были авантюристы полуинтеллигенты, недоучившиеся студенты и «экстерны», духовный багаж которых состоял из набора пропагандистских брошюр марксистского толка. Их армией –– «солдатами революции» –– стало откровенное быдло... Новый класс –– это его, правящего быдла, дети, окончившие спецшколы, университеты и аспирантуры...
Задача Куняева –– отодвинуть случайного Багрицкого со столбовой дороги, «заменив» вполне законным национальным конкурентом Сергеем Есениным», «В России действительно выросла своя собственная, русско-советская интеллигенция, и новая аристократия не ощущает более нужды в жидовском (пардон –– «сионистском») обслуживающем персонале. Катитесь! Игра окончена!..»
(с. 206)
По-моему, здесь схвачена сама суть противостояния литераторов-евреев и «русской партии». Но Куняев, этот борец за Россию, не видит или не желает признавать, что борьба идёт, в сущности, за кормовые угодья; что это внутри-интеллигентская свара, жизнь глубинного народа не затрагивающая даже по касательной.
Но не думайте, что перспективы этого самого глубинного народа совсем уж Куняева не интересовали. Он следил за демографическими процессами в стране, и Всесоюзная перепись населения 1977 года так его порадовала, что он даже накропал по этому поводу стишки. Которые были беспрепятственно опубликованы, и не где-нибудь, а в «Литературной газете» (заметьте, главред –– еврей Чаковский).
На Тунгуске перепись идёт,
и тунгус, что записался русским,
малой каплей влился в мой народ,
оставаясь зёрнышком тунгусским.
Русь моя! рождаемость низка,
но, как чудо, что в тебе исконно,
нынче ненца, завтра комяка
ты в своё усыновляешь лоно.
Испокон ведётся на Руси:
власть грешит, а каяться народу,
потому, калмык, меня прости
за свою былую несвободу.
Лес рубили, сыпалась щепа,
иссякал запас добра и сердца,
потому горчит моя судьба
горечью изгнанника чеченца.
На Тунгуске перепись идёт,
и тунгус, что русским записался,
в многокровный русский мой народ
влился, но самим собой остался.
Коль посильно платят за добро,
то как племя, думаю, не сгинут,
и ещё достоинство одно:
никогда отчизну не покинут.
Словом, будь "всяк сущий в ней язык"!
Но, коль не хватает русской плоти,
выручает "друг степей калмык", —
изучите перепись — поймёте!
Заметили шпильку в адрес не названных прямо евреев-эмигрантов? Но это пустячок, гораздо интереснее явное безразличие «патриота и государственника» к славянскому антропологическому типу.
Столь же безразлична Куняеву и традиционная религия его народа. Сам он, конечно, атеист: об этом говорит его зацикленность на вражде и борьбе. Раза два в книге упоминается Творец, но это, как я понял, просто поэтический образ. Однократно упомянут и Спаситель, но в контексте прямо кощунственном: «Задача, которую поставила перед «цивилизованным» и нецивилизованным миром Россия, равновелика цели, которую ставил перед собой Спаситель», с. 507, курсив мой; кажется, здесь содержится та самая хула на Духа, от которой предостерегал Иисус: Мф.12:31––32). И вполне закономерно,что именно Куняеву принадлежит авторство ушедшей в народ антихристианской максимы «Добро должно быть с кулаками» (самая известная строка из его поэтического корпуса).
Равнодушен Куняев и к обрядовой стороне русского Православия, столь милой большинству его единомышленников. Запустение провинциальных храмов нисколько его не огорчает.
Реставрировать церкви не надо ––
пусть стоят как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада
в наготе и в разрухе своей.
Пусть ветшают... Недаром с веками
в средиземноморской стороне
белый мрамор –– античные камни ––
что ни век, возрастает в цене.
Штукатурка. Покраска. Побелка.
Подмалёвка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем.
Для чего? Чтоб заезжим туристам
не смущал любознательный взор
в стольном граде иль во поле чистом
обезглавленный тёмный собор?
Всё равно на просторах раздольных
ни единый из них не поймёт,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поёт!
Итак, в многовековой отечественной культуре наш патриот-государственник укоренён слабовато. Это подчёркивается и целым рядом мелких обмолвок. «Непрядва перейдена», говорит он о своём решительном поступке (с. 282); здесь явная отсылка к «Сказанию о Мамаевом побоище», но там вел. кн. Дмитрий Иванович Непрядву не переходит (переходит Дон). В другом месте упоминается мимоходом «древнерусская былина об Абраме-жидовине» (с. 386); на самом деле Абрам-жидовин не из эпоса, это персонаж Лескова (путаница обусловлена тем, что существует редкая версия популярной былины «Богатырская застава», где враг-нахвальщик именуется Жидовином, без личного имени). Забавна отсылка к истории литературы, направленная против наводнивших русскоязычную литературу XX века псевдонимов, преимущественно еврейских: «В XIX веке ни одному крупному русскому писателю и в голову не приходило заменить свою простую русскую фамилию на какой-нибудь роскошный псевдоним» (с. 108). А как же Искандер (Герцен), М. Стебницкий (многолетний псевдоним Лескова), Н. Щедрин (он же Салтыков-Щедрин)? Да и псевдоним «М. Горький» появился в XIXвеке, в 1892 году... А вот образчик естественнонаучных представлений автора, прорвавшийся в стих: «оседают ферменты в крови» (с. 500). Пушкин говорил, что поэзия должно быть глуповата; допустим, но не до такой же степени!
И ещё несколько штрихов к портрету Куняева как общественно-политического деятеля. Русские люди бывают «полезными» и «бесполезными» «для русской истории», не больше и не меньше (с. 77). Евтушенко –– «агент мирового еврейства» (с. 123). Одна из глав книги носит название «русско-еврейское Бородино» (с. 271). В ЦК КПСС было «еврейское лобби» (с. 274), названы даже его представители: Севрук Владимир Николаевич, зам. зав. отделом пропаганды, и Беляев Альберт Андреевич, зам. зав. отделом культуры (с. 284; о них же –– с. 290––293). Всё плохое, что происходило при Сталине –– дело рук дорвавшихся до власти евреев (с. 294; то же проповедуется и в других местах). Против России действуют не США и их союзники, как объясняет нам сейчас наше горячо любимое начальство, а некая «мировая закулиса» (с. 367:2). «Патриот» и «сталинист» –– синонимы (об историке Г. Костырченко сказано, с. 383, что он «отнюдь не патриот, скорее антисталинист»).
Вот такой он, Станислав Куняев –– «историк, философ и поэт» (это самохарактеристика, с. 350).
Теперь о его книге. Часть очерков, из которых она состоит, написана давным-давно, в 1998––1999 гг., и по меньшей мере часть из них была опубликована в журнале «Наш современник» (с. 214**). Использован также материал ранее изданной двухтомной книги, текст которой легко найти в Сети: Куняев С.Ю. Поэзия. Судьба. Россия. Кн. 1, 2. –– М.: Наш Современник, 2001. Затрудняюсь определить, есть ли вообще в рецензируемой книге хоть что-то новое. Скорее всего, нет. По-видимому, мы имеем дело всё с тем же двухтомником 2001 г., но перелицованным и сокращённым (кн. 1+ первые четыре главы из кн. 2).
Название «новой» книги не отражает содержание, что признаёт и сам автор:
В сущности, книгу этих воспоминаний и размышлений можно было назвать обычно и просто: «Русский человек».
Я бы несколько иначе назвал (см. заголовок этой рецензии).
В книге 14 глав, названия их достаточно произвольны и не раскрывают содержание, поэтому я их воспроизводить не буду.
Первые три главыавтобиографичны: Куняев рассказывает о детстве, студенческой юности и молодости.
Часть первой главы (с. 40––55) занимают воспоминания матери автора, написанные в 1975 г. и охватывающие 1939––1953 гг. Описываются будни советского врача-хирурга, женщины весьма достойной; и эти 15 страниц –– едва ли не лучшее место книги.
Третья глава содержит чисто антисемитское отступление, ничем не мотивированное (с. 100––103).
Четвёртая главапосвящена в основном поэту Анатолию Передрееву, одному из друзей автора. Но мелькают здесь и другие лица, гораздо более известные: Светлов, Асеев, Сельвинский, Евтушенко; в эпизоде появляется даже Анна Ахматова.
Пятая глава –– воспоминания о Николае Рубцове.
В шестой главе автор обосновывает свою антисемитскую позицию и рассказывает о нашумевшей некогда дискуссии «Классика и мы» (21.12.1977). Неожиданно для организаторов там разразился скандал: Куняев публично раскритиковал канонизированную в СССР поэзию Багрицкого, а заодно и сборник воспоминаний об этом поэте, наполненный преувеличенно восторженными характеристиками. (Кстати, надо бы и мне высказаться о Багрицком: ждите рецензию).
Седьмая глава –– воспоминания о Борисе Слуцком, которому Куняев многим обязан. Парадокс: Слуцкий ведь представлял своей персоной один из классических типов «советского еврея».
Восьмая глава –– этнографическая: Куняев рассказывает о своей жизни в зимовье на Нижней Тунгуске, она же Угрюм-река, и о людях, населяющих тамошние окрестности. В центре повествования –– Степан Романович Фарков, человек со сложной судьбой, наставник автора в охотничьем ремесле.
Девятая глава –– рассказ автора о попытке повлиять на вышнее начальство в желаемом направлении: с этой целью в феврале 1979 г. он накатал письмо в ЦК КПСС, выступая там «против еврейского засилья в культуре и идеологии» (так он говорит сейчас, а тогда это было деликатно обозначено как «борьба с сионизмом»). Письмо обильно цитируется и представляет собой, надо признать, интереснейший идеологический манифест. Далее рассказывается, как возмутителя спокойствия учили жить: в частном разговоре –– Феликс Кузнецов, руководитель Московской организации Союза писателей СССР (в то время прямой начальник Куняева); на официальной беседе в ЦК –– высокие партийные чины, Альберт Беляев и Владимир Севрук (их Куняев зачислит в «еврейское лобби», о чём я уже упоминал выше); наконец, случайно встреченный несколько месяцев спустя (в Доме творчества на Рижском взморье) Александр Чаковский, архиуспешный и сверхлояльный советский еврей (кандидат в члены ЦК КПСС, редактор популярной «Литературной газеты», обвешанный с ног до головы всевозможными наградами, собиратель всевозможных литературных премий... при очевидной для многих литературной бездарности). Изложение беседы с Чаковским особенно интересно (с. 293––296). Я полагаю, что именно данный конкретный высокопоставленный прохиндей самим фактом своего карьерного успеха привёл Куняева к идее, сформулированной несколько ниже:
Еврейская элита борется не за частные национальные привилегии, а за ВЛАСТЬ в самом глубоком и широком смысле слова.
(с. 307)
Но до окончания девятой главы далеко, там ещё будет много всяких сценок и размышлений. Несколько страниц в финале –– рассказ о необычной судьбе «Мишани», Михаила Дёмина (1926––1984), бывшего уголовника, прошедшего лагерь и ссылку, а потом сумевшего стать советским писателем. В 1968 г. он сбежал во Францию, получил там литературную известность, но затосковал по родине и захотел вернуться. Куняев рассказывает о встрече с ним в Париже в 1980 г. и о своей безуспешной попытке способствовать его возвращению.
Десятая глава –– «винегрет», составленный из рассказов о разных читательских письмах; о попытке автора дискредитировать творчество Высоцкого, уже после его смерти (Высоцкий провинился перед Куняевым, я полагаю, и бешеной популярностью в народе, и тем, что его отец –– еврей); о переписке с поэтом Яном Вассерманом, весьма любопытной (она воспроизводится почти полностью); о знакомстве с Катаевым (здесь автор переносится из 1980-х в 1967 год); о том эффекте, который произвела в 1980 г. катаевская повесть «Уже написан Вертер», опубликованная в журнале «Новый мир». Дивились и самому факту публикации столь острого текста, и авторству (Катаев был женат на еврейке, имел стойкую репутацию юдофила).
Террор еврейской ЧК в Одессе, революционный палач Макс Маркин, местечковый вождь ещё более крупного масштаба Наум Бесстрашный, бывший террорист эсер Серафим Лось — он же Глузман, и целая армия безымянных исполнителей приговоров, расстрелы в гараже, юнкера, царские офицеры, красавицы гимназистки, которых заставили раздеться перед смертью — всё это в 1980-м году, задолго до того, как мы прочитали «Щепку» В. Зазубрина или мельгуновский «Красный террор», буквально потрясло читающую и думающую Россию.
(с. 363)
Куняев провёл маленькое расследование и обнаружил любопытнейшие факты из времён отрочества Катаева, когда он писал и публиковал вполне черносотенные стихотворения (с. 367––368).
... Да, не прост был Валюн, «крёстный отец всех шестидесятников», бывший юнкер, из рода русских офицеров и учителей, дворянин по происхождению, участник первой мировой войны... Наверное, его настолько потрясли кровавые ужасы еврейско-чекистского террора, развернувшегося по воле Троцкого, Землячки (Залкинд) и Бела Куна, что всю оставшуюся жизнь, с одной стороны, он подлаживался к советской власти «страха ради иудейска», а с другой — тайно мечтал написать всю правду о кошмаре, свидетелем которого юный Катаев стал в 1920 году.
(с. 366)
В начале 1990-х гг. повесть «Уже написан Вертер» была перепечатана в новоизданном однотомнике Катаева, но с купюрами; Куняев не поленился их выписать. Привожу их под спойлером.
О Науме Бесстрашном:
Стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был будённовский шлем с суконною звездой.
О чекистах одесской «чрезвычайки»:
Юноша носатый... чёрно-курчавый, как овца.
О бывшем эсере-террористе Серафиме Лосе:
Ему не нравилось, что Маркин назвал его Глузманом.
О главном чекисте:
У Маркина был неистребимый местечковый выговор. Некоторые буквы, особенно шипящие, свистящие и цокающие, он произносил одну вместо другой, как бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков — русского, еврейского, польского, немецкого.
— У тебя сидит один юноша, — начал Лось.
— А ты откуда знаешь, что он у меня сидит? — перебил Маркин, произнося слово «знаешь», как «жнаишь», а спово «сидит», как«шидит».
— Ты просишь, чтобы я его выпустил?
Он произнес «выпуштиль».
— Я застрелю тебя на месте.
«На месте» он произнес как на «мешти».
О юнкере Диме, ненадолго вышедшем из ЧК, в то время как его фамилия уже была напечатана в списке расстрелянных:
Увидев его, квартирная хозяйка, жгучая еврейка... вдруг затряслась, как безумная, замахала толстенькими ручками и закричала индюшачьим голосом: — Нет, нет, ради бога нет. Идите отсюда! Идите! Я вас не знаю! Я о вас не имею понятия! Вы расстреляны и теперь вас здесь больше не живет. Я вас не помню! Я не хочу из-за вас пострадать!
Ещё о Науме Бесстрашном:
Теперь его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию... У него, так же, как и у Макса Маркина, был резко выраженный местечковый выговор и курчавая голова, но лицо было ещё юным, губастым, сальным, с несколькими прыщами.
И наконец, о них всех предсмертная записка русской дворянки Ларисы Германовны, увидевшей в расстрельных списках имя своего сына, юнкера Димы:
Будьте вы все прокляты.
(Куняев, с. 365––366)
В той же главе автор несколько неожиданно переходит к своей общественно-политической деятельности во времена горбачёвской «перестройки»; рассказывает о том, как получил в 1989 г. должность главного редактора литературного журнала «Наш современник» (столь ответственную, что кандидатура обсуждалась на Политбюро ЦК КПСС).
Одиннадцатая глава –– очерк о Ярославе Смелякове.
Двенадцатая глава –– рассказ автора о В.П. Астафьеве. Куняев считает его предателем, перебежчиком из национально-патриотического лагеря в лагерь ельцинистов; приводятся факты, которые биографию Виктора Петровича в самом деле не украшают. Но я очень понимаю Астафьева, когда он говорит Куняеву и его сотрудникам по журналу «Наш современник»: «Ребята, не делайте из второй половины журнала подворотню» (с. 430). И выход Астафьева из редколлегии, конечно, был неизбежен и закономерен.
В конце главы Куняев воспроизводит полностью нашумевшую в 1986 г. переписку Астафьева с модным историком-популяризатором Эйдельманом (с. 443––449). Писем, собственно, только три: Эйдельмана-Астафьеву, с критикой националистических ноток в его творчестве; ответ Астафьева, резкий и неполиткорректный; ответ Эйдельмана, в котором сквозит удовлетворение (провокация удалась). В своё время Эйдельман активно распространял копии этих писем; в 1989 г. он умер; в 1990 г. журнал"Даугава" опубликовал тексты писем, сейчас их легко найти в Сети.
В тринадцатой главе автор рассказывает о поездке в Нагорный Карабах в 1971 г.; затем о других своих ранних впечатлениях от «национальных окраин»; от этого он плавно переходит к размышлениям о распаде СССР, обнаруживая при этом очень много душевной простоты. Той самой простоты, которая хуже воровства.
Четырнадцатая глава –– драматичный рассказ о многолетней дружбе с поэтом Игорем Шкляревским, закончившейся разрывом. Между прочим, один из эпизодов этой главы, на первый взгляд третьестепенный, показывает, сколь ненадёжен Куняев как мемуарист. Это рассказ о том, как Шкляревский и Куняев переводили латиноязычную поэму Николая Гусовского «Песнь о зубре» («Carmen de statura feritate ac venatione bisontis», 1523).
Так и пролежала «Песнь о зубре» четверть века у нас в столах до нашего окончательного разрыва и до нашей старости.Несколько лет тому назад я перечитал её, пожалел о затраченном вдохновении, и поскольку издавать перевод под двумя фамилиями было нелепо, взял и доперевёл Игореву половину поэмы. Полностью в моём переводе она наконец-то в 1998 году была издана не где-нибудь, а на родине Игоря в Белоруссии, где и положено ей быть изданной.
(с. 534)
Куняев умалчивает о том, что ещё в конце 1970-х гг. их со Шкляревским опередила другая команда переводчиков; что перевод конкурентов был издан в 1980 г. И не где-нибудь, а в Белоруссии. Где и положено этой книге быть изданной.
Вообще Куняев –– выдающийся мастер изящного вранья. Рассказывая о переписке с Яном Вассерманом (гл. 10), он полностью цитирует одно из стихотворений своего оппонента; последняя строфа звучит так:
Так что знайте, «дружки дорогие»,
Очень чёткое мненье моё:
Мне тамне испытать ностальгии ––
Здесь умру, не дождавшись её.
Куняев комментирует:
Стихи слабые, но искренние и по-своему впечатляющие. Одна беда –– последняя строчка, как показала жизнь, оказалась фальшива... Ян Вассерман умер не в России.
(с. 349)
Наивный читатель подумает, конечно, что Вассерман эмигрировал. На самом деле Ян Вассерман родился в Киеве в 1932 г., долго жил на Дальнем Востоке, в 1983 г. поселился в Кишинёве, где и умер 11 июня 1991 г. То есть родился в СССР и умер в СССР. Куняев говорит: «умер не в России» (то есть,другими словами, не в РСФСР). Но непонятно, почему советский еврей Вассерман обязан был умереть именно в РСФСР, а не в какой-нибудь другой из остальных 14-ти советских республик.
ПОДВОЖУ ИТОГ: Куняев –– носитель целого букета отталкивающих личностных качеств; с таким человеком я поостерёгся бы иметь какие-либо дела. Но он сыграл определённую роль в общественно-политической жизни страны, и читать его книгу было интересно. Местами, правда, противно до тошноты... но, по крайней мере, русским литературным языком автор владеет неплохо. Этого не отнимешь.

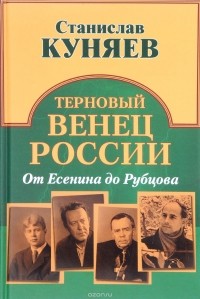


Комментарии
«Непрядва перейдена», говорит он о своём решительном поступке (с. 282); здесь явная отсылка к «Сказанию о Мамаевом побоище»
Вряд ли - это скорее отсылка к гораздо более известному А.Блоку:
...Орлий клекот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня...
Ну, и где здесь переход Непрядвы? )