Больше рецензий
21 ноября 2023 г. 21:06
1K
4.5 Совесть и клише немецкого бюрократа
РецензияСовесть как таковая в Германии явно куда-то пропала, причем настолько бесследно, что люди о ней почти и не вспоминали и не могли даже представить, что внешний мир не разделяет этот удивительный «новый порядок немецких ценностей».
Необычное произведение, которое привлекает любопытной авторской позицией и неординарной подачей материала, но все же вызывает некоторое недоверие и неприятие тона повествования. Слишком много тут писательского «я», ни о какой беспристрастности речи и не идет, хотя Ханна Арендт не занимает чью-либо сторону, но все же свое видение ситуации она ставит в центр происходящего. Удивительно было читать ее пассажи в стиле - никто на суде не понял, все ошибались, а вот она заметила, разобралась в истинной личности подсудимого, в его характере.
Увы, ему никто не поверил. Обвинитель не поверил, поскольку такая у него работа — не верить. Адвокат не обратил на эти заявления никакого внимания, потому что он в отличие от самого Эйхмана вопросами совести нисколько озабочен не был. Судьи не поверили потому, что, будучи людьми порядочными и, возможно, слишком даже совестливыми для своей профессии, не могли и представить, что обыкновенный, «нормальный» человек — не слабоумный, не циничный и не жертва пропаганды — оказался абсолютно неспособным отличать добро от зла. Из-за того что Эйхман все-таки временами лгал, они предпочли видеть в нем лжеца — и потому упустили из виду самую главную в моральном и даже юридическом плане проблему всего дела.
Эта его манера создавала во время процесса немалые трудности — не самому Эйхману, а тем, кто должен был его обвинять, защищать, судить, вести репортажи из зала суда. Для этого надо было принимать его всерьез, что было непросто — поэтому некоторые пошли по самому легкому пути разрешения противоречия между невыразимым ужасом деяний и несомненной серостью того, кто их совершил: они объявили его умным расчетливым лжецом — а он им не был.
А по существу чего он считал себя виновным? Во время долгих перекрестных допросов обвиняемого — как он сам говорил, «самых длительных допросов в истории», — этого, казалось бы, очевидного вопроса ему не задал никто — ни защитник, ни прокурор, ни один из трех судей.
Никто из участников так до конца и не понял всего ужаса Освенцима, который по сравнению со злодействами прошлого имеет совершенно иную природу, потому что он предстал перед обвинением и судьями не более чем большим чудовищным погромом из еврейской истории.
Тесно связанной с этим промахом оказалась подозрительная беспомощность судей, когда им предстояло решать задачу, от которой им было еще сложнее скрыться, — задачу понять преступника, которого они судили. Было явно недостаточно того, что они не пошли на поводу обвинения в его очевидно ошибочном описании обвиняемого как «патологического садиста». Также было бы недостаточным, если бы они сделали следующий шаг и показали непоследовательность обвинения: господин Хаузнер хотел судить самое страшное из всех существовавших в мире чудовищ и в то же время судить в его лице «многих таких же, как он», и даже «все нацистское движение и антисемитизм в целом». Конечно же, они понимали: действительно было бы очень удобным поверить, что Эйхман чудовище — даже если бы дело против него провалилось или потеряло всю свою привлекательность.
В Иерусалиме эту угрозу восприняли очень серьезно — как доказательство власти Эйхмана: если бы он захотел, он мог «наказать Францию». Вообще-то это была обычная похвальба Эйхмана, доказательство его «влияния», но вряд ли «свидетельство его статуса в глазах подчиненных», за исключением того, что он мог лишь просто угрожать лишить их очень уютных мест.
В произведении много весьма критических замечаний, под раздачу попал и Бен-Гурион, и правительство ФРГ, а также сионисты и лидеры еврейский общин, запятнавшие себя сделками с нацистами.
Совершенно очевидно, что именно в этом зале премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион и намеревался устроить показательный процесс над Эйхманом, когда решал похитить его из Аргентины и доставить в окружной суд Иерусалима, чтобы он ответил за свою роль в «окончательном решении». И Бен-Гурион, которого по праву называют «архитектором государства», остается невидимым режиссером процесса. Он не единожды присутствовал на заседаниях, и это его голосом в зале суда говорит генеральный прокурор Гидеон Хаузнер — будучи представителем государства, он неукоснительно подчиняется своему господину. И если его попытки, к счастью, не всегда оказываются успешными, то только потому, что председательствует на процессе человек, который служит правосудию с таким же рвением, с каким господин Хаузнер служит государству.
И правосудие — возможно, абстракция для тех, кто мыслит, как господин Бен-Гурион, — доказывает, что оно является куда более строгим господином, нежели премьер-министр со всеми своими властными силами.
Но как бы там ни было, сомневаться в том, что суд над Эйхманом имел в Германии далеко идущие последствия, не приходится. Отношение немецкого народа к собственному прошлому, которое в течение полутора десятилетий ставило в тупик экспертов, теперь было продемонстрировано со всей очевидностью: сам народ оно не очень-то заботит, народ не имеет ничего против присутствия в стране убийц, поскольку все эти убийцы совершали преступления не по своей собственной воле; однако, если мнение всего остального мира — или, как говорят сами немцы, das Ausland, собирая под одним определением все зарубежные страны, — упрямо требует, чтобы эти люди были наказаны, что ж, требование будет неукоснительно выполнено, по крайней мере в отношении тех, на кого это мнение указывает напрямую. Канцлер Аденауэр предвидел проблемы и высказал свои опасения по поводу того, что процесс «всколыхнет старые страхи» и даст толчок новой волне антигерманских настроений, и в этом отношении он оказался прав. Все десять месяцев, в течение которых в Израиле готовились к процессу, в Германии готовились к его вполне предсказуемым результатам, демонстрируя беспрецедентное рвение в розыске и наказании живущих в стране нацистских преступников — таким образом здесь выстраивали линию обороны против всего остального мира. Но ни разу никто из немецких официальных лиц, а также общественное мнение Германии не потребовали экстрадиции Эйхмана — а ведь такой шаг казался очевидным, поскольку каждое суверенное государство ревностно соблюдает право на суд над своими собственными преступниками.
По правде говоря, если бы администрация Аденауэра была слишком чувствительной к тем, чье прошлое запятнано сотрудничеством с нацистами, этой администрации попросту бы не существовало. Ибо действительность прямо противоречит заверениям доктора Аденауэра в том, что лишь «относительно малый процент немцев» числился среди членов нацистской партии и что «большинство населения по мере возможности старалось помочь своим согражданам-евреям».
= Одна немецкая газета, «Frankfurter Rundschau», задалась очевидным и давно назревшим вопросом: а почему столь многие, прекрасно знавшие о прошлом, например, генерального прокурора, все равно хранили молчание? И сама же дала на этот вопрос очевидный ответ: «Потому что они сами чувствовали себя преступниками».Особенную ценность для Эйхмана представляли эмиссары из самой Палестины, которые по собственной инициативе, без санкций со стороны немецких сионистов и еврейского Палестинского агентства, вступали в контакт с гестапо и СС. Они прибыли, чтобы заручиться поддержкой нелегальной иммиграции евреев в находящуюся под управлением Британии Палестину, и гестапо и СС в этой поддержке им не отказали. В Вене они вели переговоры с Эйхманом, который, согласно их отчетам, был «вежливым», «не повышал голоса», он даже предоставил им фермы и другие производственные площади для организации временных тренировочных лагерей для будущих иммигрантов.
Как писали Джон и Дэвид Кимчи, «основные действующие лица этой истории пришли к полному взаимопониманию»: евреи из Палестины говорили на языке, почти ничем от эйхмановского не отличавшемся. В Европу их послали поселенцы, и в операциях по спасению евреев они заинтересованы не были: «Это была не их работа». Их работой было отобрать «подходящий материал», а главным врагом — правда, это было еще до программы уничтожения — не те, кто сделал пребывание евреев на их старой родине, в Германии и Австрии, невыносимым, а те, кто ставил барьеры на пути к родине новой, то есть не Германия, а Британия. Они на самом деле могли разговаривать с нацистскими властями почти на равных, что было невозможно для местных евреев, поскольку находились под покровительством государства-мандатория; возможно, они были первыми евреями, открыто заявившими о взаимных интересах, и уж точно были первыми евреями, получившими право «отбирать молодых еврейских пионеров» среди заключенных концлагерей.
Естественно, они не понимали всей чудовищности этого соглашения — это понимание пришло позже, но они тоже считали, что сами евреи должны проводить селекцию, решать, каких именно евреев следует выбирать для дальнейшего выживания. В этом и заключалась основная ошибка, которая привела к тому, что в результате у большинства евреев — тех, кого не выбрали, — появились два врага: нацистские власти и еврейские власти. И если говорить о венском периоде, то заявления Эйхмана о том, что он спас тогда сотни тысяч евреев, которые в суде подняли на смех, на самом деле получили неожиданную поддержку со стороны уважаемых еврейских историков, братьев Кимчи:
«Это был один из самых парадоксальных эпизодов начального периода нацистского правления: человек, который затем вошел в историю как один из главных убийц еврейского народа, попал в список самых активных деятелей спасения евреев из Европы».
Проблема Эйхмана заключалась в том, что он не был в состоянии припомнить ни одного из хотя бы как-то документально зафиксированных фактов, которые могли бы подтвердить его невероятную историю, а его высокоученый защитник и не предполагал, что подзащитному было о чем вспомнить.Для евреев роль еврейских лидеров в уничтожении их собственного народа, несомненно, стала самой мрачной страницей в и без того мрачной истории. Об этом было известно и ранее, но теперь, после публикации основополагающего труда Рауля Хилберга «Уничтожение европейских евреев», о котором я уже писала, стали известны многие душераздирающие и грязные подробности. Что касается сотрудничества, то не было никакой разницы между широко ассимилированными еврейскими общинами Центральной и Западной Европы и говорящими на идише еврейскими массами Восточной Европы. И в Амстердаме, и в Варшаве, и в Берлине, и в Будапеште на еврейских функционеров можно было положиться во всем — в составлении списков людей и их собственности, в собирании с депортированных средств, призванных возместить расходы на их депортацию и уничтожение, в составлении перечня опустевших квартир, в предоставлении полиции сил для отлова евреев и последующей посадки их в поезда и — в качестве заключительного акта — в передаче всех средств и собственности самой общинной администрации для окончательной конфискации.
Из данной книги мне было достаточно трудно сделать какие-либо конкретные выводы, потому что моментами автор слишком погружается в юридическую терминологию и лабиринты международных законов, а моментами как-то слишком хитро жонглирует фактами и примерами, составляя причудливые схемы и соответствия (например, когда проводит параллели между нацистским запретом на вступление в сексуальные связи или в брак с евреями и израильскими законами, не признающими детей от смешанных браков).
Отсюда и странная похвальба: «мы не делаем этнических различий», которая в самом Израиле не кажется такой уж странной, поскольку личный статус еврейского гражданина определяется здесь законами раввината, в результате чего ни один еврей не может жениться на нееврейке; браки, заключенные за границей, признаются, но дети от смешанных браков в глазах закона являются бастардами (однако если оба родителя евреи, а брак между ними не заключен, их дети признаются законнорожденными), и если случилось так, что у кого-то мать не еврейка, то он не может ни жениться, ни быть похороненным.
При этом граждане Израиля, как верующие, так и неверующие, похоже, единодушны в своем желании иметь-таки закон, запрещающий смешанные браки, и в основном по этой причине — как охотно признавали вне здания суда израильские официальные лица — они так же единодушно настроены против письменной конституции, в которой пришлось бы сформулировать столь смущающий закон.
Но какими бы ни были причины, в наивности, с которой обвинитель клеймил печально знаменитые Нюрнбергские законы 1935 года, по которым запрещались браки и сексуальные отношения между евреями и немцами, было нечто захватывающее дух. Более информированные журналисты хорошо представляли себе всю иронию ситуации, но в репортажах об этом не упоминали. Они полагали, что сейчас не время говорить евреям о несовершенстве законов и институтов их страны.
При этом обращают внимание на себя статьи, приведенные в данном издании – материал из Коммерсантъ-Weekend литературного критика Г.Дашевского, где он сообщает о неправильном переводе на русский английской речи писательницы (сложной в своей неточности) и использовании первой версии произведения 1963 года (вместо пересмотренной и дополненной версии 1965, которой пользуется весь мир), что способствует «самообману» и «глупости» русскоязычных читателей. А так же заключительное слово Доктора Эфраима Зурофф, который не только повествует о том, что до громкого суда над Эйхманом практически не изучали Холокост, мало говорили о жертвах и молодежь росла, не зная о страшной судьбе "европейского еврейства", но и сообщается об ошибочности оценки писательницы исторических процессов, о ее некомпетентности и неправильности обвинения еврейских лидеров, ведь тогда действовала совокупность факторов и «зачастую в России и Польше евреев убивали сами местные партизаны».
Но если отбросить в сторону все противоречия книги, то из чтения можно вынести много занимательных подробностей. Например, узнать о судьбе известно нацистского преступника Адольфа Эйхмана, о его семье, учебе и умственных способностях, карьере в Третьем Рейхе, о том, как он решал еврейский вопрос, как сотрудничал с представителями различных сообществ, договаривался с сионистами и властями оккупированных Германией стран.
Эйхман, несмотря на свою плохую память, дословно повторял одни и те же клишированные фразы (если ему удавалось сконструировать свою собственную, «авторскую» фразу, он и ее повторял до тех пор, пока она не превращалась в клише). Что бы он ни писал в своих мемуарах в Аргентине и в Иерусалиме, что бы он ни произносил во время предварительного следствия и в суде, он использовал одни и те же слова. И чем дольше вы его слушали, тем становилось более понятным, что его неспособность выразить свою мысль напрямую связана с его неспособностью мыслить, а именно неспособностью оценивать ситуацию с иной, отличной от собственной точки зрения. Общение было для него невозможным, и не потому, что он лгал и изворачивался, а потому, что был окружен самой надежной защитой от слов и самого присутствия другого человека, а значит — от действительности как таковой.
Опишет Арендт и то, как по-разному реализовывалось «окончательное решение» в разных частях Европы, как спасали иудеев от гибели. Будут тут подробности о том, как скрывался Эйхман в Аргентине, что совсем несложно было его разыскать, особенно после того, как к нему приехали жена и дети. Обрисует писательница похищение его израильскими спецслужбами, как он содержался до суда и как принял смерть.
Во всяком случае, вступил он в партию отнюдь не по убеждению, да и вряд ли и потом стал убежденным партийцем — каждый раз, когда его спрашивали, почему он это сделал, он неловко повторял заезженные клише по поводу Версальского договора и безработицы; как он сказал во время процесса, его скорее «втянуло в партию — вопреки всем желаниям и абсолютно бессознательно. Все произошло очень быстро и внезапно». У него не было ни времени, ни желания получить полную информацию, он даже не знал партийной программы и никогда не читал «Майн Кампф». Просто Кальтенбруннер сказал: «А почему бы тебе не вступить в СС?», и он ответил: «Действительно, почему бы не вступить?» Вот как все это произошло — просто и без раздумий.
Зная об этом своем дефекте, который и мог стать причиной его школьной неуспеваемости — скорее всего, это была мягкая форма афазии[19], — он извинялся, говоря: «Бюрократический стиль (Amtssprache) — это единственный доступный мне язык».
Но этот бюрократический стиль стал его языком потому, что он действительно не был способен произнести ни одной неклишированной фразы.Это вполне могло быть правдой, но тогда ему пришлось бы признать, что Мадагаскарский проект был не более чем мистификацией. А он этого не сделал: он никогда не менял своих показаний относительно Мадагаскара, возможно, он просто и не мог их изменить. Такое впечатление, что эта история была записана в его мозгу на другую пленку, и именно такая память, содержавшая отдельные «записи», именно такой тип мышления мог стать лучшим доказательством неспособности самостоятельно мыслить, аргументировать, анализировать информацию и что-либо предвидеть.
Но в одном отношении память Эйхмана не подвела: Терезин оказался единственным лагерем, неподвластным ВВХА, до самого конца лагерь оставался в его ведении. Им командовали его подчиненные; это был единственный лагерь, в котором он обладал хоть какой-то властью, хотя обвинение в Иерусалиме пыталось приписать ему и другие властные полномочия.
Более того, и благочинный Грюбер, и иерусалимский суд ошибались, полагая, что просьбы об исключениях исходили только от противников режима. Напротив, как Гейдрих недвусмысленно дал понять во время Ванзейской конференции, создание в Терезине гетто для привилегированных категорий было результатом многочисленных подобных обращений со всех сторон. Позже Терезин стал образцово-показательным заведением, в которое допускались иностранцы, он служил для внешнего мира дымовой завесой, однако отнюдь не это было первопричиной его возникновения. Чудовищный процесс «прореживания», который регулярно происходил в этом «раю» — «отличавшемся от других лагерей как день от ночи», как справедливо было замечено Эйхманом, — был обусловлен тем, что здесь просто не хватало места для всех, у кого были привилегии. При этом, как мы знаем из директивы главы РСХА Эрнста Кальтенбруннера, «следовало с особой тщательностью следить за тем, чтобы не подвергать депортации евреев со связями и важными знакомствами во внешнем мире». Другими словами, менее «видные» евреи регулярно приносились в жертву тем, чье исчезновение могло вызвать неприятные расспросы.
В книге много размышлений о совести, о моральных установках не только лично Эйхмана, но и немецкого народа и всего человечества, о природе зла, о сопротивлении и о покорности обстоятельствам.
Таким образом, мы можем ответить на вопрос судьи Ландау — вопрос, над которым размышляли все присутствовавшие на процессе: есть ли у обвиняемого совесть? Да, у него есть совесть, и его совесть подсказывала ему в течение четырех недель одни решения, а потом начала подсказывать решения прямо противоположные.
Его совесть не протестовала против убийства евреев вообще, ему претило убийство немецких евреев.
= «Я никогда не отрицал, что знал, что айнзацгруппам было приказано убивать, но я не знал, что та же участь ожидала эвакуированных на Восток евреев из рейха. Этого я не знал». =Этот вопрос совести, столь волнующий всех присутствовавших на процессе в Иерусалиме, ни в коей мере не тревожил нацистский режим. Напротив, ввиду величайшей редкости высказываний, подобных высказываниям Кубе, и ввиду того факта, что вряд ли кто из участников антигитлеровского заговора июля 1944 года вообще упоминал о массовых убийствах на Востоке в своей переписке или в заявлениях, которые они подготовили на случай, если попытка убить Гитлера окажется успешной, можно прийти к выводу, что нацисты слишком уж переоценили практическое значение проблемы.
Среди худших эпитетов, которыми награждали Гитлера его высокосознательные оппоненты, были слова «мошенник», «дилетант», «безумец» (заметьте, происходило это на последних стадиях войны) и — время от времени — «демон», «воплощение зла»: в Германии такими эпитетами порою награждают уголовных преступников. И никто из них не назвал его убийцей. Его преступления состояли в том, что он «вопреки совету специалистов пожертвовал целыми армиями»; порою упоминались концлагеря в Германии, куда ссылались политические противники, но практически никогда не упоминались лагеря смерти и айнзацгруппы — а ведь в заговоре участвовали те самые люди, которые лучше других знали о том, что происходило на Востоке. Эти люди, которые осмелились восстать против Гитлера, поплатились своими жизнями, и их смелость достойна восхищения, но их поступок был рожден не кризисом совести или знанием того, на какие муки были обречены другие: их подтолкнула к этому поступку исключительно убежденность в грядущем поражении и крахе Германии.Айнзацгруппы набирались из подразделений СС армейского типа, военных соединений, имевших на своем счету ничуть не больше преступлений, чем регулярные подразделения немецкой армии, а их командирами Гейдрих назначал представителей элиты СС, людей с университетским образованием. И проблему представляла не их совесть, а обычная жалость нормального человека при виде физических страданий. Трюк, который использовал Гиммлер — а он, очевидно, и сам был подвержен таким инстинктивным реакциям, — был одновременно и прост, и высокоэффективен: он состоял в развороте подобных реакций на 180 градусов, в обращении их на самих себя. Чтобы вместо того, чтобы сказать: «Какие ужасные вещи я совершаю с людьми!», убийца мог воскликнуть: «Какие ужасные вещи вынужден я наблюдать, исполняя свой долг, как тяжела задача, легшая на мои плечи!»
Ею совесть действительно успокоилась, когда он увидел, с каким рвением и энтузиазмом «хорошее общество» реагирует на сто действия. Ему «не надо было заглушать голос совести», как было сказано в заключении суда, и не потому, что совести у него не было, а потому, что она говорила «респектабельным голосом», голосом окружавшего его респектабельного общества.
Что немаловажно, однажды во время выступления Грюбера доктор Сервациус взял инициативу на себя и задал ему весьма уместный вопрос: «Пытались ли вы оказать на него влияние? Пытались ли вы, как служитель церкви, обратиться к его чувствам, молить его, говорить ему, что его поведение противоречит законам морали?»
Конечно, мужественный благочинный ничего такого не делал, и его ответы были очень путаными. Он говорил, что «действия важнее слов», что «слова были бы бесполезны», он говорил заготовленными фразами, которые не имели никакого отношения к той реальности, в которой «всего лишь слова» уже были действиями и в которой, возможно, его долгом было бы проверить, насколько «бесполезны слова». Он использовал те же клише и расхожие фразы, которые судьи в других обстоятельствах назвали «пустопорожней болтовней».
Но даже более уместным, чем вопрос доктора Сервациуса, было то, что сказал Эйхман об этом эпизоде в своем заключительном слове:
«Никто не пришел ко мне и ничего не сказал об исполняемых мною обязанностях. Даже пастор Грюбер».Сколь просто было привести совесть соседей евреев в состояние покоя, прекрасно иллюстрирует официальное объяснение депортаций, которое было опубликовано осенью 1942 года в форме циркуляра партийной канцелярии:
"Такова природа вещей и связанных с ними в некоторых смыслах крайне сложных проблем, решить которые в интересах безопасности нашей нации можно, лишь прибегнув к беспощадной жестокости"Поразительная готовность, с которой Эйхман сначала в Аргентине, а потом и в Иерусалиме признавался в своих преступлениях, была рождена не столько свойственной всем преступникам склонностью к самообману, сколько духом лицемерия, который не просто пропитывал, но составлял всю атмосферу Третьего рейха. «Конечно», он участвовал в уничтожении евреев; конечно, если бы «он не обеспечивал их транспортировку, они бы не попали в руки палачей». «В чем, — вопрошал он, — мне “признаваться”»? Но теперь, продолжал он, он «хотел бы помириться с бывшими врагами». Сентиментальное побуждение, которое испытывал не только он, но и Гиммлер — тот высказывался в таком же духе перед концом войны, и лидер рабочего фронта Роберт Лей (этот, незадолго до того как покончить с собой в Нюрнберге, предлагал создать «согласительный комитет», состоящий из нацистов, ответственных за массовые убийства, и выживших евреев); в это невозможно поверить, но подобные сантименты, выраженные похожими словами, посещали в конце войны многих немцев. Это чудовищное клише не было спущено им сверху, немцы сфабриковали его самостоятельно, и оно было столь же далеким от реальности, как и остальные клише, по которым они жили в течение двадцати лет: легко представить себе «радостный подъем» на лице того, с чьих уст оно срывалось.
Эйхман неоднократно утверждал, что его организаторские способности в деле координации эвакуации и депортаций, которые выполняла его служба, на самом деле помогли его жертвам: они не мучились в долгом ожидании своей участи. Если уж так сложилось, что это надо было делать, это надо было делать очень организованно.
Подводя итог, книга вышла вполне занимательной, тут приведен весьма необычный взгляд на прошлое, так что рекомендую тем читателям, кто любит историческую литературу и биографии. Традиционно отмечу, что для любителей аудиокниг эта история тоже подойдет.

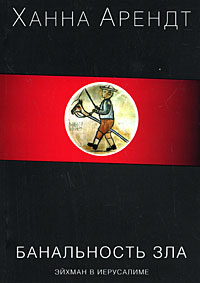

Комментарии
Галя, на злободневную тему отзыв
Да, прошлое не теряет своей актуальности, хотя и хотелось бы его оставить позади
Какая-то избирательная совесть.
Очень удобная рационализация и псевдооправдание своего участия в массовых убийствах. Всё переворачивается с ног на голову и делается вид, что так и было. Он – не исчадие ада, а добрейший убийца, который любит как можно быстрее и желательно чужими руками придушить жертву, чтобы она не успела сойти с ума от ужаса. И движим он, разумеется, исключительно человеколюбием и желанием помочь.
Да, вот именно, что переворачивается, потому что вопрос не в одном человеке, а в системе, которая его окружает. Как раз про это читала в следующей книге Филип Зимбардо - Эффект Люцифера: Почему хорошие люди превращаются в злодеев
Да, конечно. А за любой системой стоят её создатели и ярые приверженцы, то есть в данном случае - некие кукловоды, которые дёргают за верёвочки и наслаждаются своим контролем над забавно прыгающими марионетками.
Спасибо за отличную цитату, Галя! )
Людмила, спасибо за внимание и что читаешь цитаты)))
Прочитала рецензию вашу, Галина, и понял,что для меня это безумно тяжёлая книга была бы поврспричтию. Моя голова в текущей жизни неготова какому обилию исторических фактахов, юридических терминов, имён..Но вы уверено идете путем изучения того страшного исторического периода. Не стоит липобумать о истфаке, например? Я без иронии говорю. Илио большой исторической работе? С уважением
Было бы интересно узнать, как оценивают настоящие историки подобные книги,наверняка совсем иной взгляд у профессионалов. Я хоть и любила всегда историю, все же не представляю себе ее как профессию, лишь как хобби)
) честный ответ. Часто думаю, что те, кто тревожащую душу тему выбирает в жизни как хобби, не профессию, подсознательно осознает, что близко будет ее воспринимать профессионально, "уйдет" в нее. Спасибо.
Спасибо, Галя, познавательно.
наверное все-таки евреев. Ведь Гитлер истреблял не по религиозному признаку, а по национальному.
Спасибо за внимание к тексту, Женя. Да, не совсем правильно слово подобрала, просто пыталась найти синоним, чтобы избежать постоянного повторения.
А ты знаком с автором? Интересно, как у вас в стране к этой книге относятся?(или все по разному и вопрос не имеет смысла?:) )
Нет, я не знаком. Но ее книги не только в моих хотелках, но и уже в эл.книге. Когда-нибудь я их прочитаю.
Не знаю как относятся. Вряд ли ее особо кто читал