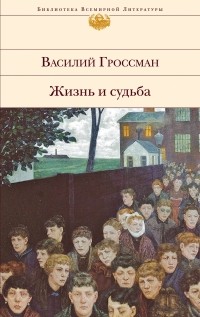Больше рецензий
9 мая 2014 г. 18:56
781
3
РецензияМне не понравилось. Я не буду перечитывать, я не буду покупать бумажную книгу, я не вернусь к электронному тексту в минуты, когда нужно подновить уверенность в некоторых мыслях.
Мне не вздумается рекомендовать ее для чтения людям, которые литературу советского времени считают полностью пропитанной пропагандой, или людям, которые ностальгируют по СССР, людям, которые привыкли к ударам по голове от чтения книг про войну, но не привыкли над своими шишками потом проводить мысленную работу, и тем более людям, которые про войну не читают, ибо "тяжело".
Вот только это ничего не меняет в книге, а я свое мнение могу сейчас засунуть куда подальше, потому что:
- товарищи Мостовской, Крымов, Новиков, Штрум, Шапошниковы количеством меня подавляют, а качеством (за неимением лучшего слова) не менее люди, чем я, о чем позже;
- "Жизнь и судьба" при всех недостатках - самая антивоенная книга из тех, что мне попадались. А также про-человечная. Она учит не бросать камни.
Сама болезненно продуманная рэндомность выбранных сюжетных линий довольно скоро позволяет вывести как общий принцип выбора (максимальное разнообразие не только человеческих типов, но и их жизненных обстоятельств), так и виды зла, которые Гроссман, пользуясь многим надоевшей терминологией, взялся обличить. И если я скажу, что эти виды - война и несколько "-измов" (тоталитаризм, национализм, антисемитизм), то не стоит сразу бросаться сужать эти довольно широкие понятия. Например, по сути книги, не фашистские захватчики зло, а война. Вообще. Любая война. Для любого, кто окажется на ее пути. Она калечит всех, хотя обычных людей и обычных солдат она, конечно, калечит иначе, чем палачей и отдающих приказы. Гроссман каждым эпизодом, каждой сценой бессмысленность и неестественность, бесславность войны показывает. Каждый его персонаж живет, чтобы ее показать. Штрумы страдают семьей в эвакуации. Женя страдает в одиночестве. Мостовской и Абарчук страдают в лагере. Крымов страдает на поле боя.
Среди персонажей книги нет героев. Храбрые солдаты и дальновидные командующие, радисты, танкисты, летчики - их и хочется по привычке окрестить героями, но, предупреждая нас, Гроссман в одной из глав о Новикове пишет:
Есть право большее, чем право посылать, не задумываясь, на смерть, - право задуматься, посылая на смерть. Новиков исполнил эту ответственность.
И пусть эта ответственность сама по себе была в главе тяжелым моральным выбором, результат Гроссман повторил дважды: посылать на смерть. А Гроссман, при всем объеме "Жизни и судьбы", просто так дважды не повторяет. Так что и Новиков не герой, хотя смелый, храбрый и Женю любит. Отсутствие связи между любовью, пусть самой искренней, и образом персонажа показано еще например в резкой перемене, что произошла у Баха по отношению к Зине. О чем это говорит касательно Баха? Разве что о том, что и он человек. И Зина. И Женя. И Новиков. И можно перечислять до конца всех персонажей, потому что именно о такой единице мироздания, как человек, Гроссман и пишет, выбрав фоном для этого сумасшедшего броуновского движения войну, которая всем чужда и всех заставляет страдать.
В мире Гроссмана нет черного и белого. Собственно, человечество Гроссмана представляет собой спектр с таким количеством оттенков, что ни оценить, ни осудить, ни вообще разграничить добро и зло не получается, а иногда и не стоит. Доблесть, трусость, доброта, подлость - это части человеческой сущности, и по отношению к ним Гроссман много раз напоминает не зарекаться. Каждая точка спектра проявить может противоположные качества в разное время, и не читателю судить другого человека. Сущность человеческая одинакова хотя бы потому, что в ней сочетается такое количество разных свойств, которые к тому же постоянно меняются в зависимости от обстоятельств. Из очевидно противоречивого: штурмбанфюрер Лисс может верить в что-то свое, видеть что-то иначе, но от сути никуда не денешься. Он такой же, как Новиков. Только характеры разные, а что значит разница в характерах, если они в конце концов разные у всех?
Постепенно, не вызывая обмороков и потрясаний кулаками у читателей, Гроссман подводит к этой мысли о равнозначности индивидуумов и важности человечества как целого - и к его противопоставленности войне. Когда мысленно, не сказав себе этого, читатель уже с этим свыкся, Гроссман говорит открыто:
Сколько оказалось среди них маленьких, носатых, низколобых, со смешными заячьими ротиками, с воробьиными головками.
Сколько черномазых арийцев, много прыщавых, в нарывах, в веснушках. Это шли некрасивые, слабые люди, рожденные своими мамами и любимые ими. И словно исчезли те, не люди, нация, шагавшие с тяжелыми подбородками, с надменными ртами, белоголовые и светлолицые, с гранитной грудью.
Как чудно, братски похожа эта толпа рожденных мамами некрасивых людей на те печальные и горестные толпы несчастных, рожденных русскими матерями,
которых немцы гнали хворостинами и палками в лагеря, на запад, осенью 1941 года.
Неудивительно, что, сказав это прямым текстом, подтвердив, что не зря читатель эту мысль нащупывал как главную уже долго, Гроссман почти сразу вводит одну из самых сильных сцен книги, которую я не могу описать и которая в принципе даже не требует чтения других глав, а поделиться ей мне кажется важным.
В очередной выход из подвала офицер и его напарник шагали несколько быстрей обычного - груз был легче. На носилках лежал труп девушки-подростка. Мертвое тело съежилось, ссохлось, и только светлые растрепанные волосы сохранили молочную, пшеничную прелесть, рассыпались вокруг ужасного, черно-коричневого лица умерщвленной птицы. Толпа негромко ахнула.
Пронзительно взвыл голос приземистой женщины, и словно сверкнувший нож вспорол холодное пространство.
- Деточка! Деточка! Деточка ты моя золотая!
Этот крик по чужому ребенку потряс людей. Женщина стала расправлять еще сохранившие следы завивки волосы на голове трупа. Она всматривалась в лицо с кривым, окаменевшим ртом и видела, как только мать могла одновременно видеть, и эти ужасные черты, и то живое и милое лицо, которое улыбалось ей когда-то из пеленочки.
Женщина поднялась на ноги. Она шагнула к немцу, и все заметили это, - глаза ее смотрели на него и одновременно искали на земле кирпич, не намертво смерзшийся с другими кирпичами, такой, который могла бы отодрать ее большая, исковерканная страшным трудом, ледяной водой, кипятком и щелоком рука.
Неизбежность того, что произойдет, чувствовал часовой и не мог остановить женщину, потому что она была сильней, чем он и его автомат. Немцы не могли отвести от нее глаз, и дети жадно и нетерпеливо глядели на нее.
А женщина уже ничего не видела, кроме лица немца с повязанным ртом. Не понимая, что делается с ней, неся ту силу, которая подчиняла себе все вокруг, и сама подчиняясь этой силе, она нащупала в кармане своего ватника кусок подаренного ей накануне красноармейцем хлеба, протянула его немцу и сказала:
- На, получай, на, жри.
Потом она сама не могла понять, как это случилось, почему она так сделала. В тяжелые часы обиды, беспомощности, злобы, а всего этого было много в ее жизни, - подравшись с соседкой, обвинившей ее в краже пузырька с постным маслом, выгнанная из кабинета председателем райсовета, не желавшим слушать ее квартирных жалоб, переживая горе и обиду, когда сын, женившись, стал выживать ее из комнаты и когда беременная невестка обозвала ее старой курвой, - она сильно расстраивалась и не могла спать. Как-то, лежа ночью на койке, расстроенная и злая, она вспомнила про это зимнее утро, подумала: "Была я дура и есть дура".
Очередная тема о человеческой сущности, что только в себе не совмещающей.
И раз уж пошла речь о сильных сценах, еще две - прощальное письмо Анны Штрум сыну и вся линия Софьи Осиповны Левинтон. Нельзя обойти Холокост.
Сцена в газовой камере детальна, выпукла, ярка своими ужасными оттенками настолько, что в какой-то момент начинаешь сетовать на безжалостность. Автора. Вспоминаешь, что иногда - иногда - иногда и правда в душ водили. Может случится то же самое, что в "Списке Шиндлера". В отличие от тех, в фильме, эти даже сомнений не испытывают, они все приходятся на долю читателя. Может душ? А потом одно-единственное слово проскальзывает, слабое упоминание, и все, никакие другие слова не помогают. Слово короткое: "Циклон", - и одно слово меняет настроение текста и лишает читателя надежды. И одновременно не только сидишь в ужасе, следуя за Софьей Осиповной, но и поражаешься власти одного-единственного слова в тексте.
С одной стороны, сравнивать ужас лагерей смерти с ужасом падения человека, наверное, некорректно, с другой - в какой-то момент, видимо, счетчик ужаса ломается, и в "Жизни и судьбе" газовая камера чуть ли не меньше держит в напряжении, чем ближе к концу книги вопрос, подпишет или не подпишет Штрум письмо. Я написала, конечно, другим асгардианцам в момент чтения, что потеряю веру в человечество, если подпишет, но, наверное, все же получила от книги достаточно, чтобы верой в человечество не разбрасываться, но особенно на нее и не надеяться.
"Повседневные" сцены в лагерях - как нацистских, так и советских, кажутся менее напряженными, но на самом деле они скорее менее сконцентрированы во времени, растянуты на протяжении всей книги, хотя и не для всех персонажей, а предыдущий этап для советских граждан - арест и допросы - всего лишь предыдущий круг ада, а если отступить еще, можно увидеть, что привело к аресту этих граждан, о каких словах было донесено "куда надо" (хотя для кого-то обошлось). И объединяет эти три круга ада в "Жизни и судьбе" то, что именно здесь происходят самые важные, самые точные и глубокие разговоры о тоталитарных режимах, войне и людях. Сначала Штрум паникует о разговорах в Казани - с Мадьяровым, Соколовым, Каримовым. Штрум не за них потом наказан, но сколько их вообще, таких Штрумов. А в лагере Мостовской чуть ранее на допросе дискутирует, иначе не назвать, о режимах, о приказах, о лагерях - с Лиссом. Все эти разговоры стоят внимания и действительно хорошо написаны. Почему-то очень четко видно, как осторожно, корректно, но выражая все же все ту же мысль о человечестве, Гроссман писал эпизоды о немцах.
Но почему-то Анатолию Рыбакову вещать из головы Сталина можно. Это не кажется странным, не кажется дерзкой замашкой, а у Гроссмана после перемещений от Мостовского к Крымову к Штруму к Новикову встреча штурмбанфюрера Лисса с Эйхманом шокировала не меньше, чем звонок Сталина Штруму и показавшиеся частыми эпизоды с Паулюсом. Думаю, причиной тому не столько разница между вымышленными и реально существовавшими людьми (в книге впоследствии у конкретного читателя грань эта стирается), сколько приближенность реальных персонажей к тому (в)нечеловеческому, военному. Своим личным вкладом в исторический процесс, жестоко распорядившийся столькими людьми, они отделили себя от судеб, которые рассматривает Гроссман, отделили себя от жизни и людей. Может только в рамках книги, но в книге тот же Эйхман - не человеческое существо, не из того же разряда, что все другие персонажи. И я не о том, что его действительные поступки были по жестокости своей бесчеловечны, конечно. Просто по сложившимся правилам "Жизни и судьбы" Лисс - человек, а Эйхман нет.
Не совсем в тему, но о нечеловеках. Потому что о животных. Еще один эпизод. Родился себе котенок среди взрывов и выстрелов, рос тощим и невзрачным. Подобрали котенка военные, отдали приглядывать радистке Кате. И не то чтобы Катя его не уберегла, но не до котят было, и "мы в ответе за тех, кого приручили", наверное, не совсем действовало. Вот что случилось:
Она заметила, что котенок слез со своей подстилки. Задние лапы его были неподвижны, он полз на одних передних, спешил добраться к Кате.
Потом он перестал ползти, челюсти его несколько раз открылись и закрылись... Катя попыталась приподнять его опустившееся веко. "Подох", - подумала она и ощутила чувство брезгливости. Вдруг она поняла, что зверек, охваченный предчувствием уничтожения, думал о ней, полз к ней уже полупарализованный... Она положила трупик в яму, присыпала его кусками кирпича.
И чувство брезгливости, и "думал о ней, полз к ней" - слишком понятно, чтобы не тронуло. И нашел же Гроссман слова для этого.
Хотя вообще обычные и даже напряженные сцены Гроссману даются нелегко; крайне редко на страницах появляется что-то действительно сильно написанное. Отчего-то автор принял решение самые острые, самые тяжелые моменты (иными словами, самые жуткие смерти) писать малосвязно, писать, будто это из рассказчика, а не из персонажа вытекает жизнь, а пустота ужасом заполняется. При всей невыносимости сцены газовой камеры потом, когда эмоции отпускают, отмечаешь для себя, что последние фразы только при непрерывном, напряженном чтении не кажутся неверно подобранными. Такой стиль - не лучшая находка, но он тоже вариант. Может были и хуже.
Не буду замалчивать другие недостатки. Не такое уж большое количество людей из тех, кто упорно дочитывает книги, не сдастся до середины книги, когда сумасшедшее мельтешение локаций и персонажей складывается наконец во внятную картину. Я к середине и разобралась.
Можно отнести к недостаткам и достаточно размытую структуру книги: у большинства сюжетных линий, а в итоге и у всего текста не хватает какого-то элемента - то явной завязки, то кульминации, то еще чего. По большому счету этот недостаток является естественным следствием циклопического размаха книги. Если целью было описать многообразие рода человеческого в отдельно взятый момент времени, а также подчеркнуть значимость каждого индивида при всей его, казалось бы, статистической и исторической незначительности, то о какой развязке в принципе может идти речь? В надчеловеческом, историческом плане, пожалуй, можно посчитать за кульминацию победу советской армии в Сталинградской битве. Но не во всех сюжетных линиях она сыграла роль. Например одна из самых заметных линий - Штрум, его работа и семья - вообще выстроена по своему и не особо укладывается в привычные рамки. Ее легче всего выразить как-то иначе, навскидку вот так, например: плохо-плохо-интеллектуально хорошо, но в остальном плохо-плохо-плохо-признание работы, ХОРОШО!-плохо-честно и по совести, но плохо-плохо-плохо-Марья Ивановна, но все равно плохо-плохо-стыдно, но хорошо-хорошо-стыдно и плохо. До развязок ли тут. Зато метания Штрума показаны так, что никаких сомнений в его принадлежности к тому самому малоприятному, но единственно нам известному человечеству не остается. Его охватывает нерациональная, противоречащая всем принципам человека с непромытой головой радость от звонка Сталина, меняющего его судьбу, что чуть не пошла под откос:
Совсем другое волнение захватило его - честолюбивое торжество над людьми, преследовавшими его. Ведь недавно, ему казалось, он не имел злобы против них. Он и сегодня не хотел им мстить, причинять зло, но его душа и ум были счастливы, когда он вспоминал все плохое, нечестное, жестокое, трусливое, что совершили они. Чем грубее, подлее были они к нему, тем слаще было сейчас вспоминать об этом.
И эти люди потом, вместо того чтобы стыдиться,
в день его прихода в институт радостно здоровались с ним, заглядывали ему в глаза взором, полным преданности и дружбы. Особенно удивительно было то, что эти люди были действительно искренни, они действительно желали теперь Штруму одного лишь добра.
И под конец, в завершение истории Штрума, очень грустное завершение:
Он уже понимал ужас своего положения: не враги казнили сегодня его. Казнили близкие, своей верой в него.
В другом "недостатке", наверное, можно повинить и себя. Я долго не могла запомнить, кто есть кто. Мне кажется, если бы их всех звали Аурелиано, Аурелиано и Аурелиано, я меньше бы путалась. Они все Крымовы, Грековы, Хреновы, Венгровы, Новиковы и Шапошниковы, Нади, Жени и Кати. В какой-то момент ушедшая со сцены Катя Венгрова перетекла в Веру, которая весьма логично родила и одна ухаживала за ребенком. Обычно чрезмерное описание внешности в книгах мешает, но, лишаясь опоры на внешность (она довольно мельком описана, и далеко не у всех), вообще теряешься иногда. Может, конечно, и это всего лишь обратная сторона того, что Гроссман подошел жутко далеко и запредельно близко к огромной толпе людей, где соответственно некоторые характеристики личности ну просто не удержать в голове, но...
Необходимости некоторых персонажей я не поняла до сих пор, например тот же Даренский, который сам по себе был мне симпатичен, или Абарчук. Не могу сказать, конечно, что их можно было из книги выкинуть - так и масштабной картины не сложить, и не увидеть всех оттенков, что Гроссман различил и предложил нам. Приходится терпеть. У Даренского например был мимолетный эпизод с Аллой как-ее-по-батюшке, где началась такая химическая реакция, без которой разнообразие человеческих отношений представить нельзя, но и которая в романе-то больше нигде не встречается. У Штрума с М.И. было иначе, и у Кати с Сашей было иначе. Вот и не выкинуть Даренского. Абарчук - заключенный, но не такой, как Мостовской. Абарчук, как в книге и было упомянуто, Робеспьер в лагере. Без такого типажа тоже весь из спектра что-то пропадает. Не выкинуть из него и явных монстров, вроде этого:
В караульном помещении часовой рассказал ему о произошедшем ЧП.
- Передовой меня пугают, да тут хуже, чем на передовой, тут скорей все нервы потеряешь... Повели самострела на расстрел, он стрельнул себе через буханку хлеба в левую руку. Расстреляли, присыпали землей, а он ночью ожил и обратно к нам пришел.
Он обращался к Крымову, стараясь не говорить ему ни "вы", ни "ты".
- Они халтурят так, что последние нервы от них теряешь. Скотину и ту режут аккуратно. Все по халтурке. Земля мерзлая, разгребут бурьян, присыпят кое-как и пошли. Ну, ясно же, он вылез! Если б его закопать по инструкции, он бы никогда не вылез.
<...>
Крымов вдруг спросил:
- Кем вы были в мирное время?
- Я в гражданке в госхозе пчелами заведовал.
- Ясно, - сказал Крымов, потому что все вокруг и все в нем самом стало темно и безумно.
И поскольку никакого внятного заключения, по размерам не превышающего остального текста, я сделать не могу, процитирую Гроссмана еще раз - о войне и человечестве:
Не безгрешный и милостивый небесный судья, не мудрый верховный государственный суд, руководствующийся благом государства и общества, не святой, не праведник, а жалкий, раздавленный фашизмом грязный и грешный человек, сам испытавший ужасную власть тоталитарного государства, сам падавший, склонявшийся, робевший, подчинявшийся, произнесет приговор.
Он скажет:
- Есть в страшном мире виноватые! Виновен!