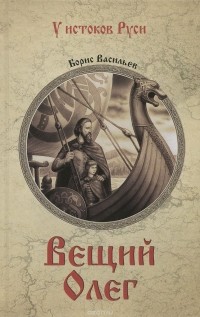Больше рецензий
28 июля 2022 г. 14:07
428
3.5 Писатель, который хотел быть историком
РецензияКлассик Советской военный прозы, который, по собственным словам, «никогда не собирался быть писателям… мечтая быть историком»; на заре прошлого столетия прочно окунулся в мир исторической литературы. Отчасти этот творческий выбор был связан с его богатым историческим прошлым. Отец – офицер царской армии: «чудом пережил три армейских чистки»; Мать – из старинного дворянского рода, чуть не была расстреляна в 1918 году. Стоит ли говорить, что подобные элементы биографии не могли ни оказать влияния на воспитание Васильева: «Меня воспитывали еще по старинке, как это было принято в провинциальных семьях русской интеллигенции, почему я безусловно человек конца 19-го столетия. И по любви к литературе, и по уважению к истории»; а также на его будущие взгляды наиболее полно нашедшие свой выхлоп в автобиографии «Век необычайный». Васильев и сам однажды сознался, что его поколение было счастливым, ведь ему: «досталось на долю то, что достается редко – мы делали историю».
«Человек 19-ого столетия»; родившийся в семье: «имеющей непосредственное отношение к этому периоду нашей истории»; не мог ни обратиться к прошлому своего рода – оформив его не столько в биографическом, сколько в художественном ключе – так Алексеевы, стали Олексиными, история которых стала первым опытом Васильева в жанре исторического романа. Опыт удачный, причем не только для поклонников творчества писателя (как правило высоко оценивающих историю Олексиных), но и для него самого. «Были и небыли» не стал первым и последним погружением в пучину событий XIX века, обрастая своеобразными продолжениями и превращаясь в настоящую сагу: «о столетней истории одной семьи, а точнее — столетней истории возникновения, торжества и гибели русской дворянской интеллигенции».
Если история Олексиных по большей части отразила художественные тенденции конца XX века с его стремлениями на «критическое переосмысление прошлого и дискредитацию официальной научной доктрины»; то вот цикл «Древней Руси» представляет собой нечто необычное, как в самом творчестве писателя, так и в контексте жанровых особенностей. Основную роль конечно сыграла выбранная эпоха. Цикл «Олексиных» был глубоко личной, авторской историей, тогда как романы об Олеге Вещем, Ольге, Святославе освещали события IX-XI веков слабо отраженных в научной литературе: «В современной науке все сведения о первых русских князьях являются спорными и носят консенсусный характер». Историк, оказываясь в таких обстоятельствах, будет прокладывать свой творческий путь с максимальной осторожностью, ограничиваясь лишь допущениями (обязательно указывая на них), приводить разные точки зрения (подкрепляя их доказательствами и ставя под сомнения контраргументами). Но может ли пойти по подобному пути писатель, чьим итогом должно стать художественное произведение? Ответ я думаю очевиден. От того и такие авторы, как Васильев, или Петреченко – создавая свои исторические романы о Древней Русской истории – опираясь на те немногие факты, что у них были создавали: «свою художественную версию событий»; имеющую исторический контекст, но отличную произвольностью исторической интерпретации. В особенности это коснулось исторических личностей, чей образ на страницах как романа «Олег Вещий», так и в большей степени в «Ольге, королеве русов» и «Князе Святославе», многие исследователи озаглавили таким словосочетанием, как скандально-эпотажный. Васильев как будто сознательно переворачивает с ног на голову устоявшиеся образы таких личностей, как Рюрик, Игорь, Ольга, двоя последних практически не представлены на страницах этого романа, но их образы, ставшие центральными в последующих произведениях цикла, пожалуй, претерпели самые грандиозные изменения. В «Олеге…» преимущественно досталось Рюрику, чей образ коварного варяга, противопоставляется, как немногочисленным историческим свидетельствам, так и мести, которая будучи главной фабулой романа несколько затмевает собой образ самого заглавного героя. Олег здесь фактически вынесен на второй план, тогда как основная история вертится вокруг вымышленного (так мне казалось поначалу) окружения правителя русов. Тема мести, клятвы, наследия красной нитью проходит через роман связывая прошлое и будущее двух центральных (хотя вопрос их центральности спорен) героев (Нежданы и Сигурда) с историческими хрониками нашего государства, создавая любопытный облик Древней русской истории, имеющий, правда, мало общего с действительностью.
Проблема Васильева не столько в трактовке исторических персонажей (хотя я знаю, что многих поражало именно это), сколько в облике самой эпохи. Исследователь Бокова отмечала: «У него нет никаких этнографических описаний и музейных перечней... Не стремится он и к языковой стилизации... Его книги написаны очень просто, нормальным современным языком, скупо обозначают место действия, которое читающий вправе представлять, как ему угодно, и вообще почти лишены реалий, за исключением необходимейших — меч, плащ, кубок». Облик IX века, выведенный на страницах его романа, мало общего имеет с исторической реальностью. «Олег…» насыщен анахронизмами, а иногда и откровенными авторскими фантазиями. Его герои, в плане общения, фраз, мыслей, скорее отсылают нас к XIX веку (более близкому автору), чем к той древности которой и посвящено данное произведение. Отсюда мы видим странные вещи вызывающие откровенные вопросы (причем в прямом смысле этого выражения, так как на доставшейся мне библиотечной книге, предыдущим читателем, видимо пораженным до глубины души, было оставлено множество вопросительных и восклицательных знаков), как-то одежда, оружие, обычаи, убранства и размеры домов, обитающие племена и их устройство, города их названия и облик; и порождающий этакий «беллетизированный мир условного Васильевского Средневековья». Для массового читателя в этом есть свой положительный аспект. Давайте признаем, что многие из тех, кто возмущается недостоверностью исторического слога, требуя, чтобы историческая проза «соответствовала описываемому в ней времени» часто сами не знают, чего хотят и ждут. Неужели вы и вправду хотите, чтобы диалоги, мысли, фразы, описания отражали IX век? Вы действительно хотите роман текст которого будет представлять собой форменную абракадабру даже для выпускника исторического факультета? Конечно можно допустить, что у нас каждый второй читает перед сном читает оригиналы древних русских текстов, но давайте смотреть правде в глаза некоторая доля стилизации не просто допустима, а необходима, что признают и историки, и филологи: «В итоге его «Романы о Древней Руси» становятся сравнительно новым явлением в жанре исторического романа. Некоторые их особенности, такие как условность описания художественного мира и сгущенный условный хронотоп заставляют вспомнить о поэтике рыцарского романа и германском эпосе, другие (беллетризованная фабула и произвольность в интерпретации исторических лиц) напоминают романы А. Дюма и А. К. Толстого»; впрочем, грань этой допустимости вероятно еще более обильное поле для дискуссий, чем сама её возможность.
Должен признаться, что мне не хотелось писать рецензию на «Олега…», потому что, не смотря на очевидность исторических допущений, роман в целом оставил приятные впечатления. В свое время подобное было и с другим циклом произведений о Древней Руси за авторством Галины Петреченко. История все-таки богатое поле для дискуссий и мнений, наверное, важно стараться лишь не допускать категоричности, причем обеим сторонам и писателю, и читателю, которые в субъективности исторической науки в любом случае остаются людьми со своими страстями и болью.