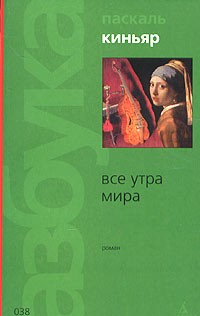Больше рецензий
6 марта 2022 г. 22:16
1K
4.5 Чтобы дышать, когда не хватает воздуха
РецензияОн спросил: «Для чего годна музыка?» Далеко не сразу ученик понял значение вопроса; сначала ему пришлось выдержать испытание успехом и долго-долго тосковать по настоящей музыке на должности главного королевского музыканта. Де Сент-Коломб и Маре, учитель и ученик, два композитора и музыканта, играющих на виоле да гамба. Историческая зарисовка Паскаля Киньяра рассказывает об их отношениях. (И давайте сразу условимся, что я говорю «роман», ведь так написано на обложке, но это скорее зарисовка на грани между рассказом и повестью).
Да и про историчность можно говорить лишь с натяжкой. Какой была жизнь музыкантов в XVII веке? Про Жана де Сент-Коломба известно настолько мало, что любой биографический роман будет состоять сплошь из допущений. А в том, что более-менее известно об этом французе, — в этом Киньяр позволил себе вольные отступления. Но чего не простишь ради хорошего сюжета? Если верить вики, де Сент-Коломб родился около 1640, но в романе композитор уже в 1650 году потерял жену, оставшись с двумя дочерьми на руках — малышками двух и шести лет. В 1689 году, когда повествование заканчивается, он изображён глубоким стариком.
Биография Марéна Марé в большей степени соответствует фактам (будем называть «фактами» то, о чём говорится на вики), а с его личной жизнью и чувствами автор обошёлся настолько творчески, что скучная историческая личность вдруг заиграла яркими красками, представ перед скромной читательницей реальным человеком. Неплохо-неплохо, я лишний раз убедилась в мастерстве Киньяра. Но об этом позднее.
Поговорим немного о сюжете.
Однажды к музыканту приходит 17-летний юноша и просится в ученики. Это Марен Маре. Он уже прикипел к лёгкой и чистенькой кормушке при музыке — вот почему он хочет учиться у лучшего. Де Сент-Коломбу не нравится такое отношение к музыке («Святотатец! Богохульник!», мог бы закричать он, если бы не был столь сдержан), однако навыки молодого человека его впечатляют, да и дочерям пригожий паренёк приглянулся. Тут ещё надо отметить, что Мадлен старше Марена на 12, а Туанетта на 8 лет. Но мальчик-то пригожий.
Однажды, взбесившись от приземлённости ученика, великий учитель выбрасывает его из дома, но Мадлен тут же подбирает — и учит тайком, заодно соблазняя. Девушка передаёт Марену все знания, полученные от отца, но тут младшая весёлая сестрёнка Туанетта соблазняет парня. Сердце Мадлен разбито, её ребёнок рождается мёртвым, и я почти вижу облегчение её бывшего. Марен слишком увлечён благами служения при королевском дворе, ему нет охоты связывать себя ни с одной из сестёр.
На долгие годы мужчина покидает дом де Сент-Коломбов. Ну как «покидает»… Ему было трудно просто взять и уйти, поэтому время от времени он тайком пробирался к хижине своего учителя и подслушивал. А жизнь того шла своим чередом. Он по-прежнему тосковал по умершей любви, и в какой-то момент встретил призрака жены, вызванного «к жизни» его музыкой. Его старшая дочь потихоньку сходила с ума, болела и чахла. Чтобы поддержать сестру, Туанетта отправилась к Маре и попросила его встретиться с несчастной 39-летней женщиной. Маре поддался уговорам, тем более что почти 20 лет чувствовал вину. А сразу после его визита Мадлен повесилась.
Ещё одна трагедия подкосила старика де Сент-Коломба, и долгие годы он почти не играл, во всяком случае, не играл ничего стоящего, только сидел в хижине и разговаривал «сам с собой». Подслушивающий Маре от этого тосковал всё сильней. Однажды старик вздохнул особенно сильно, вопрошая, неужели не найдётся никого, кто смог бы оценить его музыку, — тут-то Маре отлепил ухо от стены и рискнул войти в хижину. Поначалу им было неловко, но, немного поговорив, мужчины обнаружили, что теперь понимают друг друга намного лучше. Они сумели, наконец, прийти к единому мнению, для чего годна музыка, но ответа я вам не скажу. Должна же у вас остаться хоть одна причина прочитать эту книгу даже после чтения почти полного пересказа?
Сюжет у книги простой, но драматичный, эмоциональный и композиционно-красивый. Конфликт произведения строится на разном отношении двух музыкантов к тому, чем они занимаются. Старший называет музыку своей судьбой, которой обречён следовать, и, соответственно, наделяет музыку возвышенным значением. Младший же поначалу относится к музыке как к способу заработка. Маре, по мнению де Сент-Коломба, даже не имеет права называться музыкантом. Но они оба невероятно талантливы, и рано или поздно им придётся снова обсудить взгляды на музыку (это и станет кульминацией романа), а потом по-братски сыграть одну пьесу на двоих.
Помимо основного дуэта (где герои хоть и важны примерно в равной степени, но учитель всё-таки важнее) есть ответвление сюжета, исполненное в романтично-минорном ключе. Иначе говоря, ну какая хорошая история без женщины и любви? Правда, Маре относится к дочери своего учителя так же приземлённо, как к музыке: предлагают — бери, а если хочешь лучшей жизни — бери лучшее. Спустя годы он переосмысляет и эти отношения и пытается хоть как-то помочь несчастной женщине (несчастной по его вине, между прочим), но она… Я даже не знаю, как без спойлеров описать, насколько подло и одновременно красиво она поступила. В общем, эта история заканчивается печально. А плодовитость Маре в законном браке (19 детей!) мне даже видится каким-то искуплением несбывшегося в отношениях с той женщиной. Только одного не могу понять — зачем он передал ей в подарок жёлтые кожаные полусапожки? И какого размера они были, на кого?
Остальные герои не так важны, и больше в тексте нет сколь-нибудь заметных сюжетных линий. История с призраком не тянет на отдельную линию, потому что дополняет образ главного героя. Но само присутствие призрака в сюжете мне понравилось, было в этом что-то символично горестное.
Произведение такое короткое, потому что сюжет выжат досуха. Про эмоции не читаешь, их чувствуешь. Нет действий ради действий. Достаточно одной главы, чтобы показать, как двое любили друг друга, потом одной главы, где его соблазнила другая, и он потерял голову, и третьей главы, в которой он, показав в постели свою увлечённость другой женщиной, расстаётся с первой. Ничего лишнего между этим. Никаких пространных монологов, чтобы оправдаться. Хватит и красноречивого поступка, увенчанного одной фразой. Так соблазнительница говорит «Мне совсем не стыдно» своему новому возлюбленному. Так изменник говорит «Сердце человеческое поистине ненасытно», расставаясь с прежней возлюбленной. И ты сидишь в прострации, выстраивая связи между поступками и словами, собирая цельный образ персонажей, воображая их дальнейшую судьбу. Мне кажется, вот настоящая причина, почему маленькие романы порой читаются так же долго, как и большие.
Ещё один момент, над которым я довольно долго размышляла, — это положение женщины в изображённом обществе. Дочери де Сент-Коломба идут как придатки к отцу-музыканту, в них мало личного, мало личности. Это и есть пресловутая объективация женщин? Роман занимает каких-то сто страниц, но я первые 80 даже не могла толком различить сестёр между собой. Да, Мадлен и Туанетта даже проявляют некоторую инициативу (в вопросах любви и секса), но никто к ним не относится как к личностям. Только в самом конце, когда Маре оказался лицом к лицу с одной из сестёр, я увидела, что это был разговор двух личностей со своими чувствами и мыслями. И в поступках этой сестры, наконец, увидела поступки реального человека. Но это всего 5 страниц из ста.
Мне уже знакомо творчество Киньяра, и его первая для меня книга — «Carus» , — была сентиментально прохладной, как октябрьский вечер после встречи друзей. Но я не помню, было ли там подобное. Помню только особый киньяровский стиль — его трудно игнорировать. В этой книге я тоже вижу его; возможно, именно он и побудил меня взяться за чтение, ведь к книгам про музыку я в целом равнодушна. Я бы охарактеризовала стиль Киньяра как сочетание крайней поэтичности с крайним же натурализмом. Я уже не ребёнок, но я всё равно упивалась метафорами и описаниями: «печальный, как вялый член» (и нет, речь не про руку или там ногу), «настало время, когда каждый месяц ей меж ног клали тряпицу», «воспоминания о жене время от времени побуждали его спускать штаны и помогать себе внизу рукою» и т.д. В таком виде даже бытовые подробности тленного земного существования не выбиваются из возвышенного повествования.
А по сравнению с «Carus»’ом, более спокойным и ровным, «Все утра мира» получились уж очень возвышенными. Это книга об утрате, отравившей жизнь, и о сожалениях, что с самого начала чего-то не было дано, и это отравляло жизнь почти до самой смерти. Но время уходит безвозвратно, унося печали и принося утешение. Все утра мира уходят безвозвратно. Благодаря этому можно найти единственно верный ответ на все печали. В случае с главными героями ответом оказалась музыка. Но может ли музыка быть ответом на все самые важные вопросы в жизни?
Чтобы написать эту рецензию, я открыла концерт для двух виол да гамба, написанный Жаном де Сент-Коломбом. Возможно, стоило и читать под него, но я редко так делаю. Обычно включаю музыку, когда нужно написать текст, который мучительно не хочет быть написанным. Тут концерт мне помог, но я всё ещё слабо представляю общее предназначение музыки. Думаю, мы никогда бы не поладили с де Сент-Коломбом: я не понимаю его страсти к музыке, а он бы не сумел объяснить, ему бы просто не хватило слов. Кстати, возможно, роман такой короткий, чтобы подчеркнуть немногословность героя: всё, что нужно, он выражает через музыку, но звуки на страницы романа не поместишь (во всяком случае, не в 1991 году, когда были написаны «Все утра мира»). Нет, мы точно не поладили бы. Киньяр создал уникального, на мой вкус, героя и поместил его в ту единственную эпоху, которая ему подходила.
Роман является историческим не только по содержанию, но и по оформлению мыслей (если не ставить автору в укор его склонность к натуралистичным упражнениям, да). Современным романам свойственна динамичность — если не в сюжете, то хотя бы в ходе мыслей, — а их персонажи, если иное не предусмотрено сценарием, обычно общительны и легко сходятся с людьми, обладают свободомыслием, открытостью всему новому, гуманностью, чувствительностью и пониманием, как эта чувствительность ценна, они умеют действовать и привыкли к высокому темпу жизни. И т.д. Все мы в той или иной степень похожи на этот портрет, поэтому всем нам в той или иной степени трудно читать произведения, написанные в глубоком прошлом.
(Я, конечно, обобщаю, ведь есть люди, которые обожают романы XIX века и не могут читать ничего современного, и есть люди, которым даже в голову не приходит открывать книгу, если она старше 10 лет; я просто хотела сказать, что мы плоть от плоти современной культуры, поэтому первый исторический роман с трудом даётся любому читателю и в дальнейшем только от вкуса зависит, как часто человек будет возвращаться к этой литературной нише).
Так или иначе, романы, написанные в XVII веке, отличаются от романов, написанных про XVII век. Не прибегая к откровенной стилизации под старину, Киньяр попытался максимально сгладить контраст между собственным современным мышлением и исторически сложившимся в XVII веке способом выражения мыслей — и, как мне кажется, у него получилось. В этом романе довольно событий, но отсечено всё лишнее. При этом, как и положено хорошему роману образца XVII века, повествование разливается медленной рекой, динамичность тонет в описаниях, метафорах и прочих художественных приёмах, а текст приобретает даже по-настоящему барочную пышность. (Как автор это сделал, не спрашивайте.) Самой современной чертой романа, наверное, остаётся его небольшой объём (создающий также параллель с немногословностью главного героя).
В итоге, скажи мне кто, что «Все утра мира» написаны в конце XVII века, — я бы, может, даже поверила. Автор недрогнувшей рукой вывел мужской шовинизм и угнетение женщин, величие и строптивость монархов, людские прегрешения вроде жадности и похоти, — кажется, тогда всё так и было. А ещё автор ввёл в текст одну мысль, которая роднит роман со временем действия: «Если ты не занимаешься настоящим искусством, то ты не имеешь права называться творцом». Что 30, что 330 лет назад сказать такое музыканту, который зарабатывает музыкой себе на жизнь, было нормально. (Одна из причин, почему я не хотела бы жить в прошлом). А сейчас времена изменились, и отношение к искусству стало диаметрально противоположным: «Если то, чем ты занимаешься, доставляет тебе удовольствие, то никто не отнимет у тебя права называться творцом».
Но книга всё-таки заставляет задуматься, для чего нужно настоящее искусство в целом и музыка в частности. Ответ героев, озвученный в кульминационный момент, был возвышенно красивым. А я напишу о своём, до чего смогла додуматься через личный опыт. В изначальном смысле музыка — это гармонизированные звуки природы (как и любое искусство — реальность, которой придали порядок и смысл), это то, что было с нами с самого начала, испокон веков. Это утешение и надежда, это воздух, когда нечем дышать. Даже книга Киньяра, заканчиваясь на грустной ноте, оставляет после себя светлое чувство умиротворённости. Искусство — это тихое утро после долгой и тёмной ночи. Сегодня мне попалась цитата одного художника и композитора, как нельзя более подходящая в заключение:
«Видел вокруг весну, словно светлую княжну. Все деревья зажгли подсвечники и светильники. Наступил большой праздник тихого утра».
Микалоюс Чюрлёнис, из письма к Софии Кимантайте