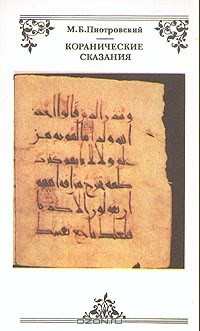Больше рецензий
22 августа 2021 г. 23:24
562
4 Мухаммад как рассказчик
РецензияПиотровский М.Б. Коранические сказания. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 219 с.: ил.

Лист раннего Корана. Пергамент, 33х22 см.
21 строка шрифтом хиджази, коричневыми чернилами, без вокализации.
Аравия, вторая половина 7 века.
22 апреля 2015 г. на аукционе Sotheby's в Лондоне — лот 56, продан за 245 000 фунтов стерлингов.
Михаил Борисович Пиотровский (р. 1944), филолог-арабист и доктор исторических наук, известен преимущественно как директор Эрмитажа. В науке он сделал немного, но тем интереснее рецензируемая книжка, адресованная одновременно и «широкому читателю», и специалистам, с претензией на «новый подход ко всему комплексу сказаний». Пиотровский рассматривает не Коран в целом, но только повествовательные сюжеты и мотивы, разбросанные по всему тексту. «Они рассматриваются в первую очередь с точки зрения их места в коранической проповеди и их связи с аравийской культурной средой» (с. 6). Не имея возможности оценить степень новизны и научной ценности предлагаемого подхода, выскажу свои впечатления рядового читателя, знакомого с Кораном только по переводу Крачковского (причём в издании без комментариев, где неподготовленный читатель — как слепой котёнок). Книгу Пиотровского, конечно, следовало бы прочитать предварительно, как введение в тему, но в своё время я до этого не додумался. А это очень помогло бы.
Пиотровский — рафинированный советский интеллигент, поэтому веровать в ниспослание Корана Творцом он не может. Полемических выпадов против основателя ислама у него нет, но его исходная установка чисто научная. В финальной главе она сформулирована открыто и очень чётко: «Типологически пророчество Мухаммада сродни шаманским трансам» (с. 165). Однако Пиотровский – не только серьёзный учёный, но и человек с развитым чувством прекрасного. К эстетической составляющей коранических сказаний он весьма чувствителен, что лишает его беспристрастия и приводит к уклону в апологию (а меня это несколько раздражает).
В главе «Прекрасный рассказ о красавце Йусуфе» эстетический аспект подчёркивается уже «на входе», в заглавии. Вот начало этой главы:
История о Йусуфе сыне Иа'куба (Иосифе сыне Иакова) занимает в Коране особое место, выделяясь по стилю и настроению среди других рассказов о пророках и праведниках. Ей посвящена полностью целая сура, так и называющаяся — «Йусуф». <…> Своим внешним оформлением история о Йусуфе более других повествовательных частей Корана похожа на рассказ, призванный развлечь слушателей, доставить им удовольствие.
(с. 90)
История Иосифа, как известно — ветхозаветная и очень древняя (зафиксированная письменно, в составе еврейской Торы, задолго до н.э.). В раннесредневековой Аравии евреев было немало, библейские предания здесь попали в фольклор, и Мухаммад воспользовался готовым общеизвестным сюжетом, заранее отметая любую критику своей версии утверждением, что именно ему открыта истина. Только он, пророк Аллаха, может поведать нам, как всё было на самом деле... Но кто не мусульманин, тот неизбежно будет сравнивать суру «Йусуф» с каноническим библейским текстом, и вполне может сделать вывод, что кораническая версия в эстетическом отношении гораздо слабее библейской. «Прекрасной» кораническую версию можно назвать, только оставаясь в пределах самого Корана, а выход за его рамки уже ведёт к эстетической переоценке. Даже из собственных наблюдений Пиотровского, выступающего в роли апологета, хорошо видно, в какой степени идеологизирована в Коране трактовка сюжета:
Он излагается не впервые, но как бы по-новому, с новыми красотами и с новым смыслом. Потому отдельные эпизоды получаются особенно пространными, благодаря введению нравоучительных сентенций (о том, что все происходящее сознательно устроено Аллахом). Художественные красоты тоже как бы новые. Это новое, мусульманское истолкование и оформление истории о Йусуфе, претендующее на то, чтобы быть глубже, мудрее и красивее, а потому и истиннее, чем общеизвестное иудейское предание.
(с. 95)
«Претендующее», да; но основательна ли претензия?
«Мораль» излагаемой истории в Коране сильно подчёркнута и особо выделена. Рассуждения, формулирующие «идейную направленность» рассказа, иногда нарочито вплетены в повествование. По поводу почти каждого эпизода сообщается, что так предопределил Аллах ради возвышения Йусуфа. Размеры таких морализирующих сентенций нарастают по мере развития сюжета.
(с. 96)
То-то и оно… Пиотровский — он добрый, а злые люди скажут, что в Коране просто-напросто испорченная версия библейского рассказа об Иосифе.
В другой главе, где фигурирует коранический пророк ‘Иса, Пиотровский рассматривает с апологетических позиций два самых «больных» места Корана:
В суре «Марйам» (19:28/29), когда Марйам приходит к своим сородичам после рождения ‘Исы, они обращаются к ней с упреками и называют её «О сестра Харуна...». У Марии, матери Иисуса, не было брата по имени Харун-Аарон. Но у библейских Моисея и Аарона была сестра по имени Мирйам (произношение Септуагинты — Марйам, в восходящем к ней русском тексте — Мириамь). Она считалась пророчицей (Исход 15:20: «Мирйам пророчица, сестра Ааронова»). Из этой фразы Корана не раз делался вывод, что Мухаммад просто перепутал одну Марйам с другой. Такой вывод хорошо вписывается в общую концепцию Корана как собрания плохо понятых обрывков Библии. Однако он далек от реальности.
(с. 121)
Далее нам разъясняют, что здесь у Мухаммада не грубейший ляп, а «стилистически сложная метафора» (с. 122): Марйам, мать пророка Исы, является сестрой древнего Харуна-Аарона не в буквальном, а в метафорическом смысле. Мне такая трактовка представляется смехотворной, но как опыт экзегезы она интересна: похоже, в религиозных текстах вообще нет высказываний, которые нельзя было бы перетолковать, при желании, в выгодном смысле.
Ещё одна «ошибка», в которой порой «уличают» Мухаммада. Он якобы считал, что Марйам-Мария входит у христиан в состав троицы. В Судный день Аллах, а вместе с ним и сам ‘Иса упрекают христиан в том, что они приписали пророку слова: «Примите меня и мою мать двумя богами кроме Аллаха» (5:116). Это толкуют иногда таким образом, что в понимании Мухаммада троица состояла из Аллаха, ‘Исы и Марйам.
(с. 122)
Такая трактовка троицы прямо напрашивается: характерно, что её придерживаются даже и нынешние мусульмане, по крайней мере — некоторые из них. Мне самому приходилось слышать от необразованных мусульман, что у Бога не может быть семьи (с чем я, конечно, согласился), и что христианская троица являет собой мнимую божественную семью: бог-отец, бог-сын и богородица (это пришлось опровергать, но оппоненты, кажется, мне не поверили). Пиотровский пишет: «У Мухаммада были некоторые основания для того, чтобы обвинять некоторых христиан в обожествлении Марии» (с. 184, прим. 6, с примерами неортодоксальных трактовок образа матери Иисуса). Согласимся: основания были. Но наличие оснований для возникновения ошибочного представления не отменяет сам факт ошибочности представления. Ошибка остаётся ошибкой, каков бы ни был путь к ней.
Несмотря на указанные раздражающие моменты, в целом книга очень хороша: повествовательные сюжеты Корана становятся более-менее ясными. Чувствуется, что автором проделана громадная исследовательская работа. Но тем, кто знакомство с самим Кораном не планирует, книга Пиотровского никакой пользы не принесёт. И читать её нелегко: требуются настрой на тему и концентрация внимания. Автор дополнительно осложнил будущим читателям усвоение материала, разместив большие массивы текста в примечаниях (некоторые занимают целую страницу и более, причём мелким шрифтом). По-хорошему, так следовало бы перенести львиную долю этих примечаний в основной текст.
И в заключение, как бонус — забавная цитата, взятая именно из примечаний:
Существует довольно старый (самая старая рукопись — X в.) арабский вариант Протоевангелия Иакова, что может служить, хотя и косвенным, свидетельством его бытования на арабском языке и до ислама.
(с. 285)
Итак, о бытовании некоего текста до VII в. («до ислама») свидетельствует факт существования рукописи X в. с этим текстом... Моя коллекция алогизмов, обнаруженных в научных трудах, увеличилась на единицу. И это была последняя капля к аргументам, побуждавшим не ставить книге Пиотровского высший балл.