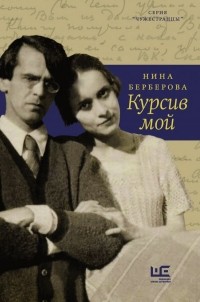Больше рецензий
3 июня 2021 г. 13:31
752
5 Болезнь культуры двадцатого века — неспособность чувствовать свою реальность. Джим Дуглас Моррисон(The Doors)
РецензияПеред нами яркие и очень живые воспоминания Нины Николаевны Берберовой, русской писательницы и поэтессы, жены Владислава Ходасевича. В мемуарах описаны переломные моменты в жизни не только самой Берберовой, но и многих представителей русской интеллигенции, вынужденно эмигрировавших во Францию после революции.
Воспоминания детства, бурление предреволюционной России, крах привычного литературного мира после прихода большевиков, катастрофа судеб великих людей в эмиграции, ужас оккупации фашистов , и наконец, переезд в США - основные вехи этого автобиографического романа.
Сама же Нина Николаевна представляет собой образец стойкости и жизнелюбия, несмотря на жесточайшие испытания и лишения. В России она не оставила сильных привязанностей, чувство отечества у неё было минимальным, поэтому в любой ситуации она жила только настоящим, решая проблемы здесь и сейчас, именно это и позволило ей выстоять, выясняя её «собственные конкретные взаимоотношения с её временем».
Названием первой главы книги «Гнездо и муравьиная куча» Берберова подчеркивает, что чувство семьи ей чуждо, а символ гнезда угнетает. Она пишет: «в муравьиной куче можно жить более вольно, чем в гнезде, что там меньше тебя греют твои ближние (это грение мне особенно отвратительно), что в куче, среди cтa тысяч (или миллиона) ты свободнее, чем в гнезде, где все сидят кружком и смотрят друг на друга…», а затем утверждает «одиночество - самое естественное, самое достойное состояние человека».
«Я принадлежу к тем людям, для которых дом, в котором они родились и выросли, не только не стал символом защиты, прелести и прочности жизни, но разрушение которого принесло огромную радость. Ни "отеческих гробов", ни "родного пепелища" у меня нет, чтобы опереться на них в трудные минуты; родства по крови я никогда не признавала … я и живу - без опоры, без оружия, без тренировки для защиты и нападения, без собственного племени, родной земли, политической партии, без прадедовских богов и гробов.»
«И если до конца сказать правду ужасы и бедствия моего века помогли мне: революция освободила меня, изгнание закалило, война протолкнула в иное измерение.»
«Я сейчас смотрю на годы моего детства без малейшей "дымки грусти", без меланхолической слезы о "навеки утраченном". Все мое прошлое со мной, в любой час моей жизни. Вся прелесть его для меня в том, что оно дало жизнь моему настоящему.»
Калейдоскоп встреч позволил Берберовой в одном произведении дать описание сломленной эпохи через характеристики своих знакомых.
Так, Гумилёв оставил у неё неприятное ощущение холода и высокомерия. Похороны Блока заставили почувствовать начало катастрофы. От Горького она почерпнула «полубезумный восторг делания», несмотря на чуждость взглядов и устремлений.
Вот что она поведала о других культовых личностях.
О Пастернаке:
«Теперь кажется, что эти "темноты" были созданы им нарочно, чтобы настоящую мысль спрятать подальше, прикрыть, закамуфлировать.»
«У Пастернака не познавательная, а эмоциональная поэзия, до смысла которой нет необходимости добираться.»
«… хотел ли Пастернак сам, чтобы люди добирались до сути его стихов? Теперь я думаю, что эти усилия понять до конца строфу за строфой были совсем и не обязательны - в его поэзии строфа, строка, образ или слово действуют внесознательно, это в полном смысле не познавательная, но чисто эмоциональная поэзия через слух (или глаз) что-то трепещет в нас в ответ на нее, и копаться в ней совершенно не нужно. Вот комната она названа коробкой с красным померанцем, вот весна - пахнущая выпиской из тысячи больниц, вот возлюбленная, как затверженная роль провинциального трагика, разве этого недостаточно? Этого много, слишком много! Здесь есть "гений", и мы благодарны ему. Здесь есть "высокое косноязычье" - и мы принимаем его.»
О Цветаевой:
«Ее отщепенство, о котором она гениально написала в стихотворении "Роландов рог", через много лет выдало ее незрелость: отщепенство не есть, как думали когда-то, черта особенности человека, стоящего над другими, отщепенство есть несчастье человека - и психологическое, и онтологическое, - человека, недозревшего до умения соединиться с миром, слиться с ним и со своим временем, то есть с историей и людьми. Несомненно, в Марине Ивановне это отщепенство тем более было трагично, что с годами ей все более начало хотеться слияния, что ее особенность постепенно стала тяготить ее, она изживала ее, а на ее месте ничто не возникало взамен. Она созревала медленно, как большинство русских поэтов нашего века (противоположность веку прошлому), но так и не созрела, быть может, в последние годы своей жизни поняв, что человек не может годами оставаться отверженным - и что если это так, то вина в нем, а не в его окружении.»
«Цветаева, наоборот, к этому шла через всю жизнь, через выдуманную ею любовь к мужу и детям, через воспеваемую Белую армию, через горб, несомый столь гордо, презрение к тем, кто ее не понимает, обиду, претворенную в гордую маску, через все фиаско своих увлечений и эфемерность придуманных ею себе ролей, где роли то были выдуманы и шпаги картонные, а кровь то все-таки текла настоящая.»
О Бунине:
«…у Бунина не было чувства людей, у него в сильной степени было чувство себя самого; и при его почти дикарском эгоцентризме Бунин вовсе не умел ни брать, ни давать в личном общении, а часто бывал и настороже: как бы не задели его дворянского (и литературного) достоинства, и считал, что писателю прежде всего надо быть наблюдательным человеком.»
«Характер у него был тяжелый, домашний деспотизм он переносил и в литературу. Он не то что раздражался или сердился, он приходил в бешенство и ярость, когда кто-нибудь говорил, что он похож на Толстого или Лермонтова, или еще какую-нибудь глупость.»
«Я уверена, что он был совершенно земным человеком, конкретным цельным животным, способным создавать прекрасное в примитивных формах, готовых и уже существовавших до него, с удивительным чувством языка и при ограниченном воображении, с полным отсутствием пошлости.»
«Всю жизнь Блок был для него раной, и весь символизм, мимо которого он прошел, чем-то противным, идиотским, ничтожным, к которому он был либо глух, либо яростно враждебен.»
«Я думаю теперь, что грубость в словах, в поведении, грубость его интеллекта была отчасти прикрытием, камуфляжем и что он боялся мира и людей не менее остальных людей его поколения, и все его чванство, - а оно было в очень сильной степени, уже до революции, в Москве, - было его самозащитой.»
«Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много запретных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской политике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набокова... всего не перечесть. Символистов он "стирал в порошок"; к собственным стихам относился ревниво и не позволял суждений о них; в русской политике до визита к советскому послу он был реакционных взглядов, а после того, как пил за здоровье Сталина, вполне примирился с его властью; смерти он боялся, злился, что она есть; искусства и музыки не понимал вовсе; имя Набокова приводило его в ярость.»
О Гиппиус:
«В Гиппиус сейчас мне видна все та же невозможность эволюции, какая видна была в ее современниках, то же окаменение, глухота к динамике своего времени, непрерывный культ собственной молодости, которая становилась зенитом жизни, что и неестественно, и печально и говорит об омертвении человека.»
«Удивлять, поражать, то есть в известной степени быть эксгибиционисткой: посмотрите на меня, какая я, ни на кого не похожая, особенная, удивительная...»
О Замятине:
«Он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой. Не думаю, чтобы он верил, что он доживет до такой возможности, но для него слишком страшно было окончательно от этой надежды отказаться.»
О Набокове:
«Огромный, зрелый, сложный современный писатель был передо мной, огромный русский писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование отныне получало смысл. Все мое поколение было оправдано.»
«Но Набоков не только пишет по-новому, он учит также, как читать по-новому. Он создает нового читателя. В современной литературе (прозе, поэзии, драме) мы научились идентифицироваться не с героями, как делали наши предки, но с самим автором, в каком бы прикрытии он от нас ни прятался, в какой бы маске ни появлялся.»
О Белом:
«Белый не видел себя, не понимал себя, не знал ("жизнь прожить не сумел"), не умея разрешить ни этого кризиса, ни всей трагической ситуации своей, требуя от окружающего и судьбы для себя "сладкого кусочка", а его не могло быть, как не может быть его у тех, кто хоть и остро смотрит вокруг, но не знает, как смотреть в себя. Он жил в глухоте, не слыша хода времени и полагая в своем безумии, что "мамочку" он найдет в любой женщине, а "папочку" - в ускользнувшем от него учителе жизни. Но люди кругом становились все безжалостнее, и это было законом времени, а вовсе не модой, веком, а не днем.»
«…он беспрерывно носил на лице улыбку дурака-безумца, того дурака-безумца, о котором он когда-то написал замечательные стихи: я болен! я воскрес! ("свалили, связали, на лоб положили компресс"). Эта улыбка была на нем, как маскарадная маска или детская гримаса, - он не снимал ее, боялся, что будет еще хуже. С этой улыбкой, в которой как бы отлито было его лицо, он пытался (особенно выпив) переосмыслить космос, перекроить его смысл по новому фасону. В то же время, без минуты передышки, все его прошлое ходило внутри него каруселью, грохоча то музыкой, то просто шумом, мелькая в круговороте то лицами, а то и просто рожами и харями минувшего. Теперь бы остановить это инфернальное верчение в глубине себя, начать бы жить заново, жить настоящим, но он не мог: во-первых, потому, что это было свыше его сил, и, во-вторых, потому, что настоящее было слишком страшно. Дурак-безумец иногда вдруг как на пружине выскакивал из него с какой-то злобой.»
О Шкловском:
«На его лице постоянно была улыбка, и в этой улыбке были видны черные корешки передних зубов и умные, в искрах, глаза. Он умел быть блестящим, он был полон юмора и насмешки, остроумен и подчас дерзок, особенно когда чувствовал присутствие "важного лица" и "надутой знаменитости" или людей, которые его раздражали своей педантичностью, самоуверенностью и глупостью. Он был талантливый выдумщик, полный энергии, открытий и формулировок. В нем бурлила жизнь, и он любил жизнь. Его "Письма не о любви" и другие книги, написанные о себе в эти годы, были игрой, он забавлял других и сам забавлялся. Он никогда не говорил о будущем - своем и общем, и, вероятно, подавлял в себе предчувствия, уверенный (во всяком случае, снаружи), что "все образуется" - иначе он бы не уехал обратно: на Западе он один из немногих мог осуществить себя полностью.»
О своём муже, Ходасевиче:
«Счастье мое с ним было не совсем того свойства, какое принято определять словами: радость, свет, блаженство, благополучие, удовольствие, покой. Оно состояло в другом: в том, что я сильнее ощущала жизнь рядом с ним, острее чувствовала себя живой, чем до встречи с ним, что я горела жизнью в ее контрастах, что я в страдании, которое узнала тогда, имела в себе больше жизни, чем если бы делила окружающее и окружающих на "да" и "нет" - интенсивность "заряда" была иногда такова, что любое чудо казалось возможным. Я не уверена, что в комфорте, в уверенности в завтрашнем дне живет для современного человека то же значение, которое было в этих понятиях сто лет тому назад: если судить по современной литературе, оно в значительной мере утеряно.»
«Для меня наш диалог, который длился семнадцать лет, - не прошлое. Это такое же настоящее, как сегодняшний день. Оно живет во мне, до сих пор действует на меня, растет во мне, как и я расту в нем, хотя сегодня я уже никого никуда не веду и сама уже ни за кого не держусь: я слила в себе Ангела и Товия, и их больше нет.»
О Ларионове:
«Ларионов до старости сохранил в характере и поведении озорство, черту, бывшую традицией футуризма.»
«Те, кто умерли молодыми, умерли озорниками, те, кто дожили до старости (как Ларионов), никогда не изжили озорства. Это новое явление нашего времени, эта важная черта целого круга художников, поэтов и музыкантов мало была отмечена. Символисты и члены "Мира искусства" ненавидели это озорство, акмеисты брезгливо от него отворачивались. Но все было вовсе не так просто: была глубокая связь "гения" с "незрелостью" и грубоватая, но, в сущности, законная и здоровая реакция против "печального вина" Блока, мрачного безумия Врубеля, патетики Скрябина, меланхолии Серова. Как многие из его современников, Ларионов был озорником и таковым прожил свою долгую жизнь. Всегда он что-то придумывал, иногда - с хитрой улыбкой, иногда захлебываясь от удовольствия и часто - назло кому-нибудь. Он никого не признавал, кроме "своих", зато со своими бывал сентиментально ласков, но главным в нем было - неуважение к почтенным сединам врагов (даже когда седины уже были у него самого) и неустанное поклонение заветам раннего футуризма, которые заставляли его держаться таких же озорников, как он сам, не сдаваться "мелкой буржуазии", а "бить ее по морде" когда и где возможно. Это соединялось у него с в общем безобидными симпатиями к советскому коммунизму и с некоторым сочувствием Германии и надеждами (во время войны) на перемены, которыми она "даст в зубы старой дуре" Европе. Только бы что-нибудь новое! Только бы что-нибудь неожиданное! Только бы ломать старое и спихивать "с борта современности" отжившее барахло!»
О Керенском:
«Соль, потерявшая свою соленость, человек еще живой, физически живой, но внутренне давно мертвый. Одинокий, несмотря на детей и внуков в Англии, похоронивший всех своих современников и сверстников, человек, постепенно прислоняющийся к церкви, к ее обрядности и тем самым теряющий свое достоинство - человеческое и мужское.»
«Но есть и другая сторона его характера: его несчастная негибкость, его холодность, его непонимание ни себя, ни других, его настойчивое отпугивание от себя расположенных, при постоянном желании подчинения их себе, его недобрый, оловянный взгляд, никуда не проникающий, и какие-то "скверные анекдоты", случающиеся с ним, от которых и ему, и всем вокруг неловко.»
Это далеко не полный список характеристик значимых людей, с которыми удалось встретиться Нине Берберовой. Яркие следы призрачной эпохи начала XX века.
Желаю приятного чтения.