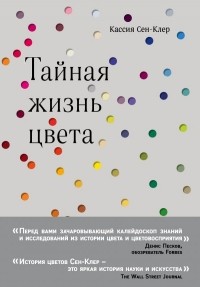Больше рецензий
7 января 2021 г. 16:56
855
4
Рецензия«Дивились радуге на небесах / Когда-то все, а ныне – что нам в ней, / Разложенной на тысячу частей? / Подрезал разум ангела крыла, / Над тайнами линейка верх взяла, / Не стало гномов в копи заповедной…» (Джон Китс)

Откройте стандартный текстовый редактор Word или графический редактор Paint на вашем компьютере, зайдите в настройки цвета шрифта или геометрической фигуры, щелкните вкладку «спектр», и вот, вам доступны миллионы оттенков в системе RGB и HSL. Вы можете простым движением мыши получить такие оттенки, о существовании которых даже не подозревали и никогда не встречали в реальном мире. Доступность многообразия оттенков цвета интуитивно кажется нам очевидной. Большинство из нас видит мир во всей доступной человеческому глазу палитре цветов. Сама наша планета выделяется нарядной сочностью красок континентов и морей, далеко опережающей по красоте пустынные ландшафты других внутренних планет Солнечной системы. А что уже говорить про разнообразие цветов и оттенков дневного и закатного неба, тропического леса, горной гряды и древних болот!

Зрение – главный канал получаемой нами от окружающего мира информации, а цвета – маяки, помогающие в этой информации ориентироваться и классифицировать ее. И несмотря на кажущееся совершенство нашего зрения, оно обладает рядом парадоксов, а за многими цветами, стоит трагическая история властолюбия, отравления, махинаций, подвигов и случайностей. Многие искусственные цвета появились в истории человеческой цивилизации постепенно, а до того, были просто неведомы и недоступны, в силу трудности, дороговизны и опасности получения необходимых пигментов. О том, какими порой странными путями окружающий нас мир пополнялся новыми оттенками, какие научные достижения, исторические события, природные условия и культурные предпосылки за этим стояли и написала свою книгу английская журналистка Кассия Сен-Клер.
«Моя книга не претендует на всеобъемлющую историю. Она разбита на разделы, посвященные определенным группам, цветовым «семьям». Вошли в книгу (и в классификацию) и некоторые цвета – черный, коричневый, белый, – которые, согласно сэру Исааку Ньютону, не считаются частями спектра. Внутри каждой «семьи» я выделила отдельные оттенки, с которыми связаны наиболее примечательные, важные или драматичные истории. Я постаралась создать нечто между законченным сюжетом и персональной характеристикой для каждого из 75 оттенков, которые показались мне самыми интересными. Одни из них – художественные краски, вторые – красители, а третьи скорее связаны с идеями или социокультурными явлениями. Надеюсь, вам понравится. У меня есть еще множество историй, для которых здесь просто не хватило места, поэтому я включила в книгу глоссарий (или палитру, если хотите) других интересных цветов и оттенков, а также список литературы для дальнейшего чтения.»
Издание от «Бомборы» в точности повторяет англоязычный оригинал (за исключением добавленного предисловия от научного редактора) и в целом соответствует самым высоким стандартам. Можно сказать, что книга оформлена как подарочное издание, но это не совсем верно, т.к. качество полиграфии в первую очередь задано темой книги и необходимостью показать все многообразие оттенков с максимальной точностью. Тем не менее, будучи подаренной, эта книга вряд ли разочарует адресата.
Как уже было сказано выше, в книге описаны 75 оттенков. Про каждый из них написан небольшой рассказ на 2-3 страницы текста. Иногда, это удивительная история открытия того или иного пигмента; иногда – значение цвета для той или иной культуры; а порой, описано влияние цвета на предпочтения в литературе, моде и декоре. Эта книга не столько о дизайне и моде, сколько о пересечении истории, культуры и науки. Не стоит забывать и о том, что это не серьезная монография, а компиляция избранных журнальных статей автора из соответствующей колонки, о чем Сен-Клер заявляет сразу в предисловии.
Оттенки объединены в 10 групп по 7-8 цветов: оттенки белого, желтого, оранжевого, розового, красного, пурпурного, синего, зеленого, коричневого и черного цветов. Перед каждой группой разворот градиентно окрашен в оттенки этой группы, дается краткая история цвета и перечисляются оттенки, описанные в главе. Поля страниц окрашены в тот оттенок, о котором говорится на этих страницах.

Соответственно этим группам довольно удобно и наглядно организованы оглавление и примечания.



Как видно из оглавления, предварительно, Сен-Клер дает краткую научную информацию о природе цвета, цветовосприятия, значении цвета для художников и литераторов. Этот тот стержень, на который нанизываются все последующие 75 историй. Кассия Сен-Клер пишет просто и увлекательно. Журнальные статьи не предполагают излишней серьезности и сложной терминологии. А многие «узкие» места прекрасно отработаны переводчиком (А. Соловьевой) и научным редактором (Н. Мельгуновой), чью работу нельзя не заметить и не похвалить (описание автором аварии на ЧАЭС своей недостоверностью думаю удивит многих). Но давайте перейдем от обсуждения издания к обсуждению материалов, изложенных в нем.
***
Цвет – штука довольно парадоксальная, и на то есть несколько причин. Задумывались ли вы о том, что тот цвет, которым мы характеризуем объект, на самом деле ему не принадлежит? Мы видим все в искаженном «цветовосприятии»!
«Разные объекты имеют разный цвет потому, что в пределах видимого спектра волны одной длины они поглощают, а другой – отражают. Так, кожура томата поглощает большинство коротких и средних волн – оттенки синего, фиолетового, зеленого, желтого и оранжевого. Красные отражаются, воспринимаются нашим глазом и обрабатываются мозгом. Получается, что мы воспринимаем именно тот цвет, которым объект не обладает: это сегмент видимого спектра, отраженный, – «отторгнутый» объектом.»
А вот еще один парадокс: с точки зрения физики, черный цвет – это отсутствие цвета как такового, а белый цвет(свет) – это смешение всех цветов. Что это значит? То, что белый и черный – это не цвета, но мы их считаем именно таковыми, более того, различаем многочисленные их оттенки!
«Абсолютно черный цвет не отражает никакого света вообще, как и абсолютно белый, отражающий все длины световых волн в равной степени. На эмоциональном уровне это не мешает нам воспринимать оттенки черного как «полноправные» цвета; на практическом – обнаружить или создать черный цвет, поглощающий весь свет, пока не удавалось никому. Vantablack, британская нанотехнология нанотрубок, позволила в 2014 году создать вещество, которое поглощает 99,945 % видимого спектра, что делает его самым черным из существующих. Оно выглядит настолько темным, что обманывает глаза и мозг, – при взгляде на него человек не в состоянии различить глубину и текстуру материала, он видит лишь «ничто», «черную дыру» в пространстве.»

Механизм интерпретации цвета до сих пор точно неясен. Даже глядя на один и тот же объект, люди часто делают разные выводы о его цвете, что лишний раз доказывает широко известный спор в интернете:
«Интерпретации цвета – очень сложный процесс. Метафизический спор о том, существуют ли цвета на самом деле или являются лишь визуальным результатом нашего представления о них, продолжается с XVII века. Шквал недоуменных споров о черно-синем (или все же бело-золотом?) платье в соцсетях в 2015 году показал, насколько эта двойственность сбивает нас с толку.»

Таким образом, цвет очень субъективен.
«Оттенки цвета на экране вашего монитора, на банке с краской в магазине и на стенах вашего дома будут различаться, хотя по названию – это один и тот же цвет. Кроме того, поскольку многие стабильные красители и краски появились сравнительно недавно, оригинальные цвета, которые они передают сегодня, могли потерять свою насыщенность. Таким образом, цвет стоит считать субъективным культурным явлением: попытка утвердить значимые точные универсальные названия для всех оттенков всех цветов имеет не больше смысла, чем построение системы координат для мечты.»
Там, где все субъективно, неизменно возникают споры, в том числе философские. Что первично: сам цвет или его название? Не так просто дать ответ на этот вопрос!
«Один лагерь – релятивисты – утверждает, что язык влияет на восприятие и даже формирует его и что без соответствующего лексического обозначения цвета мы просто не увидим его, не отличая от других. Универсалисты, следуя Берлину и Кею, уверены, что основополагающие цветовые категории едины для всех и каким-то образом заложены в биологию человека. Единственное, что мы можем сказать наверняка, – язык цвета очень непрост. Дети, легко отличающие треугольник от квадрата, могут не увидеть разницу между розовым, красным и оранжевым. Известно, что отсутствие слова для обозначения чего-либо не означает, что мы неспособны это «что-то» распознать. Греки, конечно, прекрасно различали цвета, возможно, они просто не считали их такими же интересными, как мы.»
Цвет не только надо назвать или придумать, цвет еще надо получить! Одним из самых распространенных способов получения нового оттенка является смешение цветов. Но одно дело смешение цветов света, а другое дело – смешение красок. Результаты у этих процессов диаметрально противоположны.
«Ответ на вопрос, почему смешивание цветов спектра дает белый цвет, а смешивание красок – черный, лежит в области знаний оптики. Существует два способа смешения цветов – аддитивный и субтрактивный. При аддитивном смешении световые волны разной длины объединяются, создавая новые цвета; результатом их сложения в конце концов становится белый свет. Именно это демонстрировал Ньютон в своих опытах с призмами.
<…> При смешивании красок происходит обратный процесс. Поскольку каждый пигмент отражает ограниченную часть спектра, при каждом смешении красок до глаза доходит все меньше световых волн (смешавшиеся части спектра вычитаются из общей суммы). Чем больше красок добавляется в смесь, тем меньше световых волн видимого спектра отражается и тем темнее нам кажется полученная смесь. В конце концов мы увидим только черный (или очень близкий к черному) цвет.
<…> Поиск новых, более ярких красок – основа истории живописи от доисторических времен до нынешних дней.»

Не раз разглядывая картины мастеров Возрождения, мы задумывались о том, почему бы не сделать тот или иной предмет более «натурального» оттенка, или о том, что на холсте слишком много желтого/черного/коричневого/синего… Такой дилетантский подход простителен неискушенному в истории живописи посетителю галереи. Ведь для него неочевидны те огромные проблемы по изготовлению, покупке и применению красок, тем более, что многие из них еще или не были изобретены вовсе, или являлись смертельно опасными. Быть художником еще полтора столетия назад было трудно, дорого и опасно!
«Читая трактаты и справочники художников древности, тяжело отделаться от мысли о том, что создание прекрасных и долговечных произведений искусства тогда зачастую было сродни сизифову труду. Пигменты почти постоянно капризничали, вступая в реакции с другими красителями или меняя со временем цвет, как ярь-медянка (см. здесь); они были либо откровенно опасными для жизни, как опермент (см. здесь) и свинцовые белила (см. здесь), либо невероятно дорогими или труднодоступными, как ультрамарин.»
Новые пигменты добывались случайно или намеренно, путем простого выделения секрета моллюсков, смолы растений или путем сложных химических реакций. Так или иначе, наука сыграла значительную роль для пигментов, а сами пигменты сыграли определенную роль для науки.
«Как и многие старые пигменты, гуммигут обосновался на полках аптекарей так же комфортно, как и на палитрах художников. Доктор медицины Роберт Кристисон в лекции 7 марта 1836 года описал его как «прекрасное сильное слабительное». Даже небольшое его количество вызывало «обильные жидкие выделения»; более крупные дозы могли быть смертельными. Рабочие Winsor & Newton, дробившие бруски гуммигута, бегали в туалет каждый час. Вряд ли такой побочный эффект сильно красит этот пигмент, но, вероятно, близкое знакомство научного сообщества с гуммигутом подтолкнуло французского физика Жана Перрена в 1908 году использовать его в опытах для подтверждения теории броуновского движения, выдвинутой Эйнштейном тремя годами ранее. Перрен продемонстрировал, что в мельчайших (глубиной 0,12 мм) лужицах раствора гуммигута крошечные желтые частицы продолжали, как живые, хаотичное движение, даже если эти лужицы оставались нетронутыми несколько дней. В 1926 году Перрену была присуждена Нобелевская премия.»
Некоторые цвета имеют ключевое значение для живых организмов, даже для слепых:
«Американский генетик Клайд Килер, изучавший глаза слепой мыши, сделал открытие. Зрачки мыши, совершенно лишенные фоторецепторов, позволяющих животным воспринимать свет, необъяснимым образом все же реагировали на него. Прошло еще три четверти века, прежде чем эта связь была окончательно подтверждена: все, даже лишенные зрения, располагают специальным рецептором, воспринимающим синий (голубой) свет. Это очень важно, поскольку формирует нашу реакцию на эту часть спектра, наиболее сконцентрированную в утренней порции дневного света, что, в свою очередь, определяет наш суточный биоритм, ход «внутренних часов», помогающих ночью спать, а днем – бодрствовать. Одна из проблем современного мира состоит в том, что мы перегружены синим светом в биологически непривычные для этого часы, что оказывает негативное влияние на сон. В 2015 году средняя протяженность сна взрослого американца на неделе составляла 6,9 часа; 150 лет назад – между 8 и 9 часами.»

* “Впечатление” Клода Моне. Главная картина импрессионизма
Конечно, цвет – это не только физическая характеристика. Цвет – это символ и метафора, и каждый из них приобрел свое «настроение», во многом, благодаря литературе.
«После серьезной эпидемии гриппа, поразившей Англию зимой 1890 года, на следующий год вся страна оделась в черное, серое и гелиотроп. Со временем этот цвет все же вытеснили из реальной общественной жизни, но зато его ждала изысканная и насыщенная литературная. Отрицательные персонажи часто одевались авторами именно в гелиотроп. Восхитительно аморальная антагонистка «Идеального мужа» Оскара Уайльда миссис Чивли впервые появляется перед читателем в гелиотропе и бриллиантах, а затем с головой бросается в невероятную авантюру, определяющую все лучшие сюжетные ходы пьесы. Аллюзии на гелиотроп встречаются у Дж. К. Роулинг, Д. Г. Лоуренса, П. Г. Вудхауса, Джеймса Джойса и Джозефа Конрада.»
Цвета активно участвуют в словообразовании. Вот пример, специально для книголюбов:
«Красные чернила настолько широко использовались для заглавий и подзаголовков, что такая практика породила новое слово – «рубрика», от латинского rubric, то есть красная охра.»
Цвета настолько могущественны, что даже способны управлять ценообразованием! Чего только стоит феномен «розового налога».
«Недавно обнаружилось, что товары для женщин – от одежды до мотоциклетных шлемов и подгузников – обычно стоят дороже, чем аналогичные, практически ничем не отличающиеся продукты для мужчин и мальчиков. В ноябре 2014 года госсекретарь Франции по правам женщин Паскаль Буастар потребовала ответа на вопрос: «Le rose est-il une couleur de luxe?» – является ли розовый цветом роскоши? – когда выяснилось, что дисконтная сеть Monoprix продает упаковки из пяти одноразовых бритв розового цвета за €1,80. Упаковка из десяти одноразовых синих бритв при этом стоила €1,72. Этот феномен получил название «розовый налог».

Вспоминая розовый цвет, многие ассоциируют его именно со слабым полом, но известно ли вам, что схема «розовый – девочкам, синий – мальчикам» еще недавно была обратной?
«Розовый – для девочек, голубой – для мальчиков; свидетельств тому – множество. В рамках «Проекта в розовом и синем», затеянного в 2005 году, корейский фотограф Юн Джонми снимает детей в окружении их вещей. Все девочки сидят, как потерянные, на одинаковых стереотипных розовых стульчиках. Удивительно, но это разделение «девочки – в розовом, мальчики – в синем» оформилось только в середине XX века. Всего каких-то пару-тройку поколений назад ситуация была совершенно другой. В статье о детской одежде, опубликованной в New York Times в 1893 году, говорилось о таком правиле: «мальчику всегда давать розовое, а девочке – синее». Ни автор статьи, ни продавщица из магазина, которую она интервьюировала, не знали, почему так, но автор отважилась на ироничную догадку: «Жизненные перспективы мальчиков настолько радужнее, чем у девочек, – писала она, – что девочку может заставить загрустить одна только мысль о том, что всю дальнейшую жизнь ей предстоит провести женщиной». В 1918 году отраслевой журнал подтвердил, что это «общепринятое правило», поскольку розовый – «более решительный и сильный цвет», а синий – «более деликатный и утонченный». Вероятно, это объяснение близко к правде. В конце концов, розовый – это всего лишь бледный красный, который в эпоху солдат в красных мундирах и кардиналов в красных робах был самым маскулинным цветом, а синий был традиционным цветом Богоматери. До начала же XX века сама идея о том, что дети разных полов должны носить одежду разных цветов, была странноватой. Смертность и рождаемость были столь высоки, что всех детей до двух лет одевали в легко отстирывающиеся белые льняные платья. Да и само слово «розовый» достаточно молодо. Первое его упоминание в Оксфордском толковом словаре в контексте описания бледно-красного цвета относится к концу XVII века. До этого «розовый» обозначал не цвет, а тип красителя.»

Символизм цвета широко используется в геральдике. Одним из современных примеров тому служит флаг ООН:
«Голубой имеет устоявшуюся репутацию цвета, помогающего людям выразить мысли и образы, имеющие отношение к духовной сфере. Когда в конце Второй мировой войны для поддержания мира во всем мире была создана Организация Объединенных Наций, в качестве ее символа выбрали изображение карты мира, обрамленное парой оливковых ветвей на серовато-лазурном фоне. Дизайнер и архитектор Оливер Лундквист, создавший этот герб, выбрал такой цвет потому, что тот «противоположен красному, цвету войны».
Порой символизм цветов становится неудобным одной из сторон протестов. Это ведет к процедурам запрета на использование самих цветов и выполненной в них символики. Практика эта не нова. Знали ли вы, что долгое время в Европе действовал запрет на зеленый цвет, более того, запрет на определенный способ его получения?
«Доля зеленого в геральдических цветах никогда не поднималась выше 5 %. Одна из причин этого – давний запрет на производство зеленой краски путем смешивания синего и желтого цветов. И природу процесса веками не могли толком понять и сама идея смешивания разных субстанций вызывала отторжение, которое сегодня трудно осознать. Алхимики, постоянно смешивавшие различные вещества, доверия не вызывали, а художники Средних веков обычно использовали на картинах чистые краски, не перемешивая пигменты, не пытаясь показать перспективу через игру оттенков. В ткацком и портняжном деле эксперименты с красками были жестко ограничены гильдейским правилами и уложениями, а также высоким уровнем специализации, которого требовало ремесло: тем, кто работал с синими и черными красителями, было запрещено работать с красными и желтыми. В некоторых странах любому пойманному на покраске одежды путем замачивания ее сначала в вайде, а потом в желтом красителе на основе резеды, грозило суровое наказание – огромный штраф или даже изгнание. Из некоторых растений, вроде наперстянки и крапивы, можно было извлечь зеленый краситель, не прибегая к процедуре смешивания, но полученный из них цвет был тусклым и блеклым, совсем не таким, какой предпочитали люди, наделенные вкусом и влиянием. Замечание, брошенное вскользь французским ученым Анри Этьенном в 1566 году: «Во Франции знатного человека, одетого в зеленое, будут подозревать в том, что у него не все в порядке с головой», превосходно передает отношение к зеленому в обществе того времени.
Конечно, большое значение цвет имеет и для пищи, которую мы употребляем. По цвету мы часто определяем зрелость плода, готовность блюда и содержание тары. В век широкомасштабного производства продуктов питания и конкуренции различных брендов за рынок, привлекательный цвет продукта играет важную роль, а потому, широкое распространение приобрели пищевые красители. Некоторые из них «натуральные», но радоваться из-за этого не стоит…
«Кошенильного червеца собирают и сегодня – кошениль используется в качестве сырья в парфюмерии и при производстве продуктов питания. Его можно найти везде – от конфет M&M’s до сосисок, капкейков «Красный бархат» и вишневой коки (чтобы не травмировать особо брезгливых, кармин обычно скрывают за кодом Е120). Однако в последнее время появились признаки того, что аппетит человечества к кошенилю тает: в 2012 году сеть Starbucks отказалась от своей фирменной окраски в земляничном фраппучино и кейкпопсах (пирожные в виде леденцов на палочке) после волны возмущения, поднятой вегетарианцами и мусульманами. Это прекрасная новость для популяции Dactylopius coccus, но вряд ли опунции встретят ее с таким же энтузиазмом.»
-r.jpg)
* Колония мексиканской кошенили (Dactylopius coccus)
Наш мир приобретает новые краски, причем как реальный мир, так и виртуальный, на который мы смотрим сквозь экраны наших умных устройств. Необязательно знать все цвета наизусть. Необязательно целенаправленно заниматься поиском новых оригинальных оттенков. Но стоит помнить то, что все многообразие цвета, которое мы видим вокруг, роскошь, превращенная в обыденность, благодаря труду и удаче предыдущих поколений. И помните, что на кусок ткани цвета тирского пурпура на момент его появления вы не смогли бы заработать за всю жизнь, а будучи пойманным с такой тканью, скорее всего, были бы казнены. Возможно, это сделает для вас этот оттенок не таким обыденным, как, впрочем, и все остальные.
%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC-r.jpg)
* Фрагмент шерстяной ткани из иудейской крепости Масада (Израиль. I век до н. э. - I век н. э.) окрашенной тирским пурпуром
Цветом «хаки» и «фуксия» нынче мало кого удивишь. Напоследок перечислю некоторые интересные и забавные названия оттенков: цвет раздавленной блохи, флуоресцентный розовый, красная гонка, драконова кровь, зеленый змий, зеленая земля, электрик, французский крот, мумия и т.д.
МОЕ МНЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ:
Качественное издание с выдающейся полиграфией, трепетно передающей все 75 оттенков, описанных в данной книге. Книга имеет удобный и лаконичный дизайн оформления, нестандартные, но практичные примечания и оглавление.
Формат стандартный (162x235 мм), твёрдый переплёт, без суперобложки, 320 страниц.


Достоинства издания: хорошее качество печати; белая плотная бумага; твёрдый переплёт; наличие колонтитулов; качественная полиграфия; выделенные заголовки и подзаголовки; глоссарий цветов; удобные примечания и оглавление; библиография и список дополнительной литературы; предисловие научного редактора (доцент Наталья Мельгунова); активная работа научного редактора и переводчика (много корректирующих, поясняющих и дополняющих авторский текст комментариев).
Недостатки издания: есть некоторые опечатки (буквы перепутаны местами в нескольких фрагментах текста).
ПОТЕРЯЛ БЫ Я ЧТО-НИБУДЬ, ЕСЛИ БЫ ЕЕ НЕ ЧИТАЛ:
Больше да, чем нет. Во-первых, эта книга поднимает общий уровень эрудиции. Во-вторых, это россыпь интересных коротких рассказов про историю, культуру и науку. В-третьих, это эстетический восторг для любого книголюба, которому в руки попалась прекрасно оформленная книга.
КОМУ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ БЫ:
Надо понимать, что эта книга больше про историю, культуру и науку, нежели про дизайн, моду, и практику применения цветов. Поэтому она будет больше полезна тем, кто хочет расширить свои общие знания (на этот раз в области цвета), нежели профессионалам, для которых важно практическое применение конкретных цветов, будь то художники или дизайнеры.
ВИДЕО В ТЕМУ: Получить необходимый оттенок на компьютере просто, а вот используя масляные краски (даже современные) – намного сложнее. Для этого необходимы определенные знания и опыт. Наблюдать натурно, завораживающий (для неспециалиста) процесс преобразования одного оттенка в другой можно благодаря видео «Как смешивать краски и находить нужные оттенки. Практика – берем оттенки из реальных картин» по ссылке ниже.