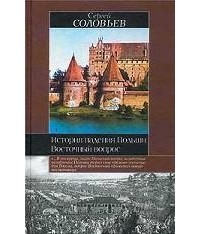Больше рецензий
16 ноября 2011 г. 19:12
768
3
РецензияКрупнейший русский историк XIX века Сергей Соловьёв (1820 – 1879 гг.) обращает свой взор на самую трагическую страницу
истории польского государства – его исчезновению с карты Европы в XVIII веке.
Нужно отдать должное Соловьёву – этот вопрос был в общественном мнении России весьма скользким.Значительная часть образованного русского общества не приветствовала русское владычество в Польше, а ещё большая часть образованного русского общества старалась просто ничего об этом не думать, так как большинство людей стараются думать так, как им приятнее.
В момент написания книги(60-ые годы XIX века)считалось, что польское государство уже никогда не восстановится. Разделившие его Россия, Австрия и Германия были очень сильны, предыдущие польские восстания потоплены в крови, а внутри самого польского общества были силы,заинтересованные в сотрудничестве с оккупантами и для которых идея национальной независимости была пустым звуком. Волей-неволей рождалась мысль, что ликвидация польского государства была вполне закономерна. Соловьёв вообще свято верил в закономерность истории, логично, что именно он озвучил подобную мысль. Ему также близка была мысль о прогрессивности сильных централизованных государств,способных в наибольшей степени выражать народные чаяния, об их неизбежной победе над государствами, не пошедшими по пути централизации и неотделимого от неё авторитаризма. Наконец, Соловьёву, глашатаю величия России, явно было просто приятно посмаковать унижение одного из главных исторических её врагов,хотя он походу и выражает сочувствие полякам.
Сейчас, в момент глубокого кризиса гуманитарных наук, когда любое осмысленное высказывание стало редкостью, и поэтому, что-либо изучая, мы решительно не можем понять, почему что-либо устроено или что-либо случилось так, а не иначе, издание труда пусть тенденциозного, но с ясной позицией и с ясными выводами (о них мы ещё поговорим) приносит думающему человеку хотя бы ту пользу, что обозначает проблему и даёт возможность спорить с ясными аргументами, а не с метафизической чушью.
У нас также есть возможность увидеть трансляцию умеренного русского национал-имперства (именно таких взглядов придерживался Соловьёв) в историю и сопутствующие ему представления о России как всюду правой, отождествления интересов русского государства и народа, представления о российском государстве как о лагере единомышленников, где успехи государства равно выгодны всем его жителям, преувеличенной ролью религии в исторической жизни. Правда, в данной работе эти идеи, типичные для творчества Соловьёва, несколько затушёваны; во многом о них можно составить представление зная о том, о чём автор умалчивает.
Да и вообще, если мы захотим что-нибудь узнать о разделах Польши, выбор у нас будет невелик. В Советском Союзе на эту тему вовсе не было написано ни одной работы, так как советский марксизм был неотделим о специфического русского национализма, свойства которого мы только что обсудили. Так что работа крупнейшего русского историка на заданную тему – просто подарок.
Проблема, конечно примечательна. Не так часто с территории Европы вдруг исчезает государство с древней историей и высокой культурой. На её примере главнейший принцип внешней политики тех лет, да и, в общем, не только тех.
Огромная заслуга творчества Соловьёва – богатство его трудов фактическим материалом. Он сам давал идейно несогласным с ним историкам в руки факты, которые говорили против его точки зрения. Так и в настоящей работе.
Кроме привидения общеизвестных фактов Соловьёв пользуется главным образом дипломатической перепиской, свидетельствами иностранцев, проживавших тогда в Польше и показаниями польских патриотов, заключенных в российскую тюрьму после восстания Тадеуша Коцтюшко. В дипломатической переписке он пытается разграничить дипломатические фразы и истинные намерения сторон, но, на мой взгляд, не всегда делает это верно (например, не критически цитируя письма Екатерины II, где она только и делает, что желает добра польскому народу). Указания иностранцев о положении в Польше самые уничижительные для польского государства и народа, впрочем, учитывая итог событий, они по большей части соответствуют истине.
Не хватает свидетельств со стороны поляков, как патриотов, так и коллаборационистов. Их мотивы восстанавливаются Соловьёвым по результатам их действий, что не всегда верно,так как в результате своих действий люди зачастую достигают не того, что хотели.
Неизвестно, сознательно ли Соловьёв выбрал именно эти источники. Возможно, он искренне полагал, что судьба Польши решилась в кабинетах дипломатов. А возможно, он не хотел ставить под сомнение свою концепцию польских дворян-предателей.
Материал располагается последовательно. Связь между различными сюжетами обуславливается принадлежностью этих сюжетов к истории Польши определённого периода и истории сопредельных стран, связанных с Польшей.
Соловьёв оперирует главным образом понятиями “государство”, “нация”, “сословие”, “религия”, “влияние”,“власть”. Их вполне достаточно, чтобы описывать и объяснять события политической истории.
Предельно ясна позиция автора, что он хочет сказать. Он использует для этого ровно столько слов сколько нужно. Обильное использование цитат оправдано желанием Соловьёв раскрыть точки зрения действующих лиц событий, показать, о чём они говорят, на что намекают и даже иногда – о чём умалчивают (здесь бы хотелось от автора более подробных комментариев, но, боюсь, они несовместимы с оправданием русской политики)
Вся информация,подаваемая автором, служит одной цели – показать историю падения Польши.
Соловьёва более интересует, как пала Польша, чем почему она пала. Причины падения, как он их понимает, изложены уже в введении к книге, а дальше идёт рассказ, как эти причины привели к итогу событий.
Польша того времени показана как целостный организм. Социальные отношения, политическая система и внешнее положение государства показаны в тесной взаимосвязи. Соловьёв ничего не говорит про экономическое положение Польши, но историк с позиций современной ему науки не считает это положение решающим для судьбы государства.
Наибольшее внимание Соловьёв уделяет борьбе политических сил внутри Польши и борьбе иностранных государств за влияние в Польше. Именно политическими факторами (религиозные причины для Соловьёва – вид причин политических) историк падение Польши и объясняет. Мои разногласия с автором в этом уже обозначены. Важно, что Соловьёв обосновал, почему по-настоящему массовое сопротивление агрессорам в Польше не состоялось.
Соловьёв ставит задачей проследить историю ликвидации польского государства. Он начинает это делать с воцарения польским королём Станислава Понятовского в 1762 году, а заканчивает 1794 г, когда российскими войсками было разгромлено восстание Тадеуша Коцтюшко. Соловьёв говорит, что обстоятельства, способствующие краху государства (паралич центральной власти,эгоизм и продажность магнатов и шляхты, чудовищное отчуждение правящих классов Польши от остального народа) возникли гораздо раньше, но специально на них не останавливается, так как историческая наука XIX века не рассматривало проблемы отдельно от конкретных событий, к чему-либо приведших. Хотя это упущение объяснимо, оно обедняет наши знания о вопросе.
Закрыл тему Соловьёв также преждевременно. Он не показал, к чему привели для всего польского народа последствия описываемых им событий. Может быть, он это тоже сделал сознательно,так как тяжёлое положение польского народа после завоевания нисколько не улучшилось, а чернить образ России Соловьёв явно не собирался.
Важное значение, по Соловьёву, имеет личность правителя государства – человека, в чьей деятельности наиболее ярко выражаются тенденции эпохи. Станислав Август Понятовский пытался ориентироваться в своей деятельности на реформаторов Петра I, Иосифа II Австрийского, Карла III Испанского, но ничего у него не получилось. Он был нетвёрд духом, непоследователен, не знал чётко, чего хочет и как он хочет этого добиться. Однако, анализируя действия короля в свете приведённых самим Соловьёвым фактов, ни видно, что бы он мог сделать лучше.Король не шёл на тесный союз ни с одним из алчных соседей, понимая, что этот союз перерастёт в поглощение этим соседом его государства. Он играл на противоречиях между могущественными соседями Польши, выгадывая что-то для своей страны и рассчитывая, что союзное государство кому-либо из них будет полезнее,чем оккупированные территории, за счёт которых одно из них может усилиться сильнее другого. Не его вина, что в один момент вечно враждовавшие Россия,Австрия и Пруссия вдруг задружили. Он не смог одолеть оппозицию, препятствующую усилению королевской власти, только потому, что за ней стояли иностранные державы. Сами поборники раздробленности и анархии признавали, что без России у них не было ни шанса. Видимо, польское государство находилось уже в таком положении, что помочь ему выжить могло только удачное стечение обстоятельств.
Много внимания уделяет Соловьёв эгоизму и продажности шляхты, не пытаясь анализировать, почему она вела себя так, а не иначе. Видимо он считал, что слабость государственной власти всегда так деморализует элиту. Соловьёв не сообщает, однако, что в имущественном и правовом отношении шляхта в результате разделов Польши не потеряла ничего, что частично может прояснить её позицию. Он также никак не комментирует факт, что очень много шляхтичей поддержало попытку Понятовского в1791 году усилить королевскую власть и урезать её, шляхты, привилегии.
Говоря о политике захватчиков Польши, автор находит оправдания действиям России и Пруссии в помощи единоверцам – православным и протестантам. Любопытно, что согласно проектам Екатерины II польские православные (а это были, как правило, люди непривилегированных сословий) в Польше получали значительно больше политических прав, чем их русские единоверцы,даже дворяне! Правда, католическая Австрия в этот святой религиозный поход как-то не вписывается, и о её мотивах Соловьёв ничего не говорит. Он полностью оправдывает поведение польских диссидентов, не желая видеть коллаборационистскую суть их поведения и удивляется, что даже самые продажные польские магнаты не желали их допускать к государственному управлению.
Согласно Соловьёву,сильные государства с сильной правительственной властью выживают и в конечном счёте процветают, а слабые и децентрализованные бедствуют и гибнут. Он высоко ставит реформы, чтобы приблизить страну к образцу развитых западноевропейских государств. Но эти реформы должны быть своевременными; если они запоздали, то их попытки только ускорят крах государства, что и произошло с Польшей. Хотя прямо Соловьёв это нигде не декларирует, из его логики выходит, что судьба Польши уже была решена к середине XVIII века, во всяком случае, эта судьба уже зависела не от неё.
Наконец, очень важное место в судьбе государств, по Соловьёву, играет способность нации объединиться,в тяжёлый час совместно дать отпор врагу, чего он наблюдал в тогдашней России и не наблюдал в Польше. Интересно, что Соловьёв подмечает причину разобщённости польского общества – огромное правовое неравенство, безграничное господство магнатов и шляхты над крестьянами и горожанами, но аналогии с Россией, где было такое же положение, но мощь государства была совершенно иной. Это противоречие он никак не объясняет, впрочем, истолкование истории России – не задача этой работы.
В общем и целом доказательность в труде Соловьёва на высоте, за исключением случаев, которые мы описали выше.
Соловьёв доказывает, что гибель Польского государства обусловлена:
1) системой международных отношений того времени с её принципами равновесия сил и выживания сильнейшего
2)наличием угнетённых религиозных общин в Польше, у которых были могущественные союзники
3)слабостью центральной власти в Польше
4) эгоизмом шляхты
5) огромным разрывом между элитой и народом.
Первое доказано весьма убедительно. Отношения между государствами, несмотря на постоянное упоминание в переписке между монархами “чести”, “благородства” и “достоинства” до боли напоминают отношения между преступными группировками (Польша в этой системе аналогий есть барыга, который ищет заступничества то у одного, то у другого бандита).
По религиозным вопросам.…Из фактов, приводимых Соловьёвым, никак не понятно, как произвольная оккупация Россией польских крепостей и поддержка ненавидевших диссидентов польских конфедератов связано с верой. Совершенно точно только то, что у России был отличный повод вмешиваться в польские дела. Ну и заявление, что причиной,побудившей Россию во второй и третий раз делить Польшу послужило намерение польского короля учредить у себя православную епархию можно оставить только на совести Соловьёва.
По последним причинам падения Польши вопрос также состоит в том, почему действующие лица польской истории вели себя так, а не иначе.
Лишь касаемо крестьян Соловьёв отмечает, что крепостное право как-то не очень способствовало их патриотизму. Про абсолютное большинство дворян, спокойно смотревших на уничтожение своей станы и почему-то ничего не делавшего для исправления ситуации – молчок. И правильно - без обращения к социально-экономическим факторам ничего этого не понять.
Прямо вопрос уникальна ли судьба Польши или она обусловлена обстоятельствами, которые характерны не только для польской истории, автор не задаёт. Однако из его взглядов на историю(смотрите его работу “Наблюдения над исторической жизнью народов”) можно понять, что историк отрицал исключительность чьей-либо исторической судьбы. Польские недуги (всевластие высшего сословия, делавшее бессильным правительство и бесправными сословия низшие) вполне могут быть характерны и для других стран.Но он не отрицает и своеобразия факторов,характерных именно для Польши XVIII века (религиозная рознь, сильные соседи, которые в отличие от Польши смогли шагнуть вперёд от средневекового политического уклада).
Главное наблюдение Соловьёва – слабость государственной власти всегда ведёт к угрозе для национальной независимости, так как социальные группы начинают в защите своих интересов апеллировать к государствам иностранным. Опасно также, когда государство обслуживает интересы только одной социальной группы, потому что в этом случае угнетённые классы не будут считать это государство “своим” и не проявят энтузиазма в его защите. Здесь с Соловьёвым спорить сложно.
Мы можем видеть, что в неблагоприятных условиях уже никакая разумная политика правящих кругов государства не спасёт. Таким образом, мы приближаемся к разгадке всех революций и катастроф – после определённого момента, который, увы, при нынешних знаниях об обществе можно указать только задним числом, только случайность, независимые от самой личности и организации факторы могут спасти её.
Общие факторы,способствующие падению Польши, по Соловьёву, действовали весь последний период её существования. Здесь он противоречит сам себе, так как он признаёт, что в конце правления Понятовского у оппозиционных конфедераций уже не было сил сломить королевскую власть, как они это делали раньше, и успех их политике обеспечивала исключительно иностранная военная помощь. Значит, успехи королевской политики не были настолько поверхностными, как казалось Соловьёву, и негативные тенденции в развитии государства можно было переломить. Польское государство было больно, но не было смертельно больно, а смерть его была не естественной (“из-за гнусных пороков нации”, как писала Понятовскому Екатерина II), а насильственной.
Таким образом, выводы книги не вполне вытекают из её фактического материала, представленного самим Соловьёвым, а являются в некоторой степени производными его имперского мировоззрения.