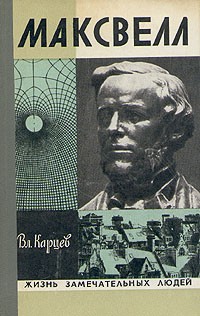Больше рецензий
9 ноября 2019 г. 14:23
222
3 «-Это песок красный. Этот камень синий. Но откуда мы знаем, что он синий?»
Рецензия«— Вот тот, черноволосый, — это Джеймс Клерк Максвелл, из Клерков.
— Он никогда не пробовал вина!
— Он ездит в третьем классе — любит жесткие сиденья.
— Не надевает крахмальных рубашек.
— А вы послушайте его мрачные шутки!
— У него вид, как будто он боится что-нибудь сломать.
— Он говорит загадками.
— Он делает открытия даже в полоскательнице для пальцев!
— Он будущий великий шотландский физик.»

Джеймс Клерк Максвелл
Главное, на что следует обратить внимание при чтении данной книги, так это на своеобразное «крышевание» науки во времена Максвелла. Каждый университет был отдельной вотчиной с подчинением своему отдельному куратору и о никакой общности научных деятелей, бьющихся за единое дело в интересах науки, не могло быть и речи. И сюда следует добавить еще и разделения по территориальному признаку – университеты Шотландии никак не желали сотрудничать с университетскими умами Англии. Эдинбургская академия, в которую поступил учиться Максвелл была основана в 1824 году и ее спонсором выступал Вальтер Скотт – этот своеобразный аналог русского Горького, который курировал, подбирал и проталкивал молодые таланты в мировую науку и литературу. Джеймс Максвелл проявил способности в постройке симметричных многогранников в геометрии и в отыскании гармонии в алгебре. К 13 годам он знал наизусть 800 греческих глаголов и воспринимал мертвый латинский язык словно живой. Он случайно узнает об очередном таланте, раскрытом Вальтером Скоттом, о Давиде Хее, который хотел стать художником, но стал маляром и архитектором. Хей говорил, что прекрасное поддается математической интерпретации, а цвет и форма имеют свои математические выражения и зависимости. Максвелл запомнил это, так как сам думал точно также. Максвелл в своих ученических работах использует для построения фигур высокого порядка метод, который оказывается более легким, чем метод Декарта. Но вышеуказанный рок «крышевания» довлел над Максвеллом. Шикарным пояснением самого понятия крышевания в Британии является история, или трагедия Джона Коуча Адамса.
История открытия планеты «Нептун»: еще во время обучения в Кембридже Адамс заинтересовался опубликованными в 1821 году таблицами движения планеты Уран, которые не согласовывались с наблюдениями более ранних астрономов. Уже в 1841 году Адамс предположил, что «незакономерности» в движении планеты вызваны тем, что за Ураном в черной пустоте, невидима, кружится вокруг Солнца еще одна планета. Два года он занимался вычислением звездных координат, где, по его мнению, должна была бы находиться не открытая еще планета, и наконец определил их. Теперь нужно было найти мощный телескоп и с его помощью обнаружить планету. Адамс желал, чтобы открытие было непременно сделано английским астрономом, в Англии, чтобы новая планета носила английское название и была бы присоединена к английской короне, украшала бы ее, как брильянты из обеих Индий. Оставив в своих бумагах меморандум от 3 июля 1841 года о предположительном наличии за Ураном еще одной планеты, неопытный Адамс через своего знакомого Джеймса Чаллиса попытался получить аудиенцию у королевского астронома сэра Джорджа Эйри. Но Чаллис хранил документы у себя до тех пор, пока мир не узнал про француза Леверрье. 29 июля 1846 года француз Леверрье, проделав ту же работу, что и Адамс, сделал ее достоянием астрономов всех стран. Ждать пришлось недолго — и уже 23 сентября берлинский астроном Галле обнаружил в указанной Леверрье точке неба неизвестную ранее планету. Когда в свете этих новых событий Чаллис попытался рассказать ученому миру о происшедшем, ему просто не поверили. Чудовищно было предположить, что королевский астроном, обладая данными для открытия новой планеты, не сделал этого. Столь же нелепо было и то, что блестящий математик Адамс не опубликовал своих результатов ранее. Возник спор о приоритете. Французы поначалу решили назвать новую планету «Леверрье», но протест общественного мнения был так силен, что остановились в конце концов на нейтральном названии «Нептун».
В задачке необходимо только уточнить: а был ли на самом деле «мальчик»? Было ли действительно открытие Адамса и не выдумали ли это англичане для того, чтобы лишить французов их открытой ими планеты? Следует сказать, что англичане, в пику миру, основали премию Адамса, присуждаемую раз в два года лучшей работе по прикладной математике, астрономии или физике…
Максвелл повторяет Малюса опыты со свечой. Свеча послушно «раздваивалась», когда на нее смотрели через пластинку исландского шпата. Но если смотреть на отражение свечи, например, в воде, то при определенном угле отражения одна свеча пропадала. Малюс пришел к выводу, что отраженный таким образом луч обладает особой асимметрией вокруг своего направления. И назвал такое свойство луча поляризацией. А сам луч — поляризованным. Максвелл рисует картину напряжений в стеклянном треугольнике, полученную им при помощи именно поляризованного света. Про Максвелл начинают шутить в том духе, что он может найти открытие где-угодно. Ему начинают прощать эксцентрические выходки точно так же, как в свое время прощали Дарвину, который пистолетными выстрелами гасил свечу. Кембридж прощает эксцентричных учеников. Вскоре его принимают в клуб двенадцати лучших умов Кембриджа, в клуб кембриджских апостолов. Кстати, Максвелл пытался исповедовать христианский социализм, но, к счастью, опыты с ним не проводил. Его тьютором был Гопкинс – лучший тьютор в Кембридже. Гопкинс считал, что Максвелл не способен мыслить о физических материях неверно. Максвелл не был также ярым шотландским националистом и, благодаря этому, он без проблем смог провести две недели в английской семье, а потом стал отрешаться от замкнутого шотландского кружка своих друзей. А еще Максвелл проводит огромную работу по изучению и развенчанию явления «столоверчения», модного в те времена способа гадания и общения с духами. Столоверчение приравнивалось к электробиологии! На экзамене (трайпосе) Джеймс занимает второе место. Из-за того, что он не мог внятно изложить свою теорию. Это его проблема останется с ним и в его книгах, которые были написаны в сумбурном стиле. Зато, он был способен задумываться о том, что проходило мимо большинства людей. Например, о появлении знания о цвете. Цветов всего семь, как и звуковых тонов. Это подтверждает тот факт, что законы природы общие для всех понятий природы. В этом и есть гармония. Примечательно, что куратор Вальтер Скотт вообще не знал, что такое зеленый цвет, а розовый и бледно-голубой были для него одним и тем же цветом. А сочетание ярко-красного и ярко-зеленого цветов казалось ему очень нежным и свидетельствующим о хорошем вкусе. Цветовой волчок и цветовой ящик оказались совсем не игрушками, а довольно точными физическими измерительными приборами. А метод Максвелла, основанный на численных законах получения данных из измерений в цветовом ящике и на волчке, стал с тех пор общеупотребительным. Цвета, оказалось, тоже можно было вычислять. Когда-то в Гленлейре Джеймс исследовал глаза трески и вола, разрезая их. Но этого было ему мало. Джеймсу хотелось бы проникнуть внутрь живого глаза. Но как самому придумать и сделать простой прибор, с помощью которого свет мог бы быть направлен через зрачок внутрь глаза и выхватить из темноты для изнывающего от любопытства Джеймса пребывающее в темноте глазное дно? И он конструирует глазное зеркало на принципе Гельмгольца, но с выпуклыми стеклами. «Преимущество этого приспособления в том, что... глаз... получает весь свет, который возвращается через зрачок. Таким способом я видел изображение свечи темно-коричневого цвета в глазах многих людей и заметил некоторые кровеносные сосуды. В собачьем глазу я видел блестящие цвета внутренней оболочки со всем ее сетчатым узором. Это поистине прекрасный объект, причем совсем нетрудный для наблюдения. Собака, во всяком случае, как будто бы не имеет ничего против». Но все научные изыскания, как уже было сказано выше, не могли противостоять дискриминации, корни которой уходили к истокам противоречий между Англией и Шотландией. И Вальтер Скотт не мог помочь. Дискриминация была в другом — она уходила корнями в истоки противоречий между Англией и Шотландией, во взаимоотношения кровавой Елизаветы и не менее кровавой Марии Стюарт, в противоборство церквей. Если степень бакалавра в Кембридже мог получить с некоторых пор англичанин любого вероисповедания, то уже степень магистра, как и все последующие, мог получить только правоверный англиканин. И Джеймсу пришлось взять назначение в Абердин. Националистические и религиозные противоречия здесь уже играли на руку Джеймсу — в Абердине желали шотландца. Когда Максвелл стал профессором, он стремился сделать своих студентов (они с течением времени, правда в небольшом числе, все-таки появились) участниками своих экспериментов, он учил их, заставляя проводить исследования, учил наукой, причем наиболее сложными и современнейшими ее областями на тот день. Студенты любили Максвелла, а он хотел, чтобы они полюбили физику. У Максвелла был свой «Нептун», своя планета, которой он посвятил много времени на ее изучение. Он изучал кольца Сатурна. Определить их физическую природу, определить за миллионы километров, без каких бы то ни было приборов, пользуясь только бумагой и пером, — это была задача, созданная как будто специально для него. И снова здесь все сводилось к вопросу веры, как и в деле Гюйгенса, который утверждал в 1659 году, что Сатурн окружен кольцом, напоминающим нимб серафимов, — и долго не смолкали восторженные клики служителей боговых, видевших в этом если не прямое подтверждение желанного, то полунамек, достаточно откровенный! Из письма Максвелла в 1857 году: «...Я все еще в Сатурновых кольцах. Сейчас два кольца спутников возмущающе действуют одно на другое. Я придумал машину, которая иллюстрирует движение спутников в возмущенном кольце, и Рамадж уже делает ее в назидание чувствительным поклонникам моделей...». Едва Максвелл формулирует свою идею, гласящую, что вокруг Сатурна скорее всего витает сонм мелких спутников — «кирпичных обломков», как Абердинский университет внезапно хотят объединять с другим университетом. За кольца Сатурна Джеймсу дали премию Адамса, но факт объединения его университета с другим, ставил под угрозу существование его, как профессора.
Интересный факт: знак равенства между Абердинским университетом и Маришаль-колледжем ставил только Маришаль-колледж. Дело в том, что в Абердине было два абердинских университета, и второй, ненавидимый маришальцами, был Кингс-колледж, тоже довольно солидное и древнее учебное заведение, почти полностью копировавшее по структуре и направлению обучения Маришаль-колледж.
Между колледжами была глухая вражда, профессора не здоровались друг с другом, а жены не ходили друг к другу с визитами. Забавнее всего было, пожалуй, то, что эти два заведения формально были объединены уже более двухсот лет: еще в 1641 году была издана королевская хартия, по которой Кингс-колледж Старого Абердина и Маришаль-колледж Абердина объединялись под названием Университета короля Чарльза. Но время было бурное, и о такой мелочи забыли. А университеты и не спорили. Ведь объединение, помимо прочего, несло с собой сокращение высокооплачиваемых должностей, сокращение числа профессоров и прочие бедствия. Так продолжалось двести лет, пока в 1858 году, в безоблачный первый год семейного счастья Джеймса, в университеты не нагрянула комиссия.
Выводы комиссии были категоричными, и 2 августа 1858 года, когда Максвелл с женой и друзьями проводил счастливые дни в Гленлейре, была дана королевская санкция парламентскому акту под названием: «Акт об обеспечении лучшего управления и дисциплины шотландских университетов, улучшении и упорядочении в них курса обучения и о слиянии двух университетов и колледжей Абердина».
Этим актом с 15 сентября 1860 года упразднялась одна из двух параллельно существовавших в университетах кафедр натуральной философии и одна из должностей Принципалов. Максвелл и его тесть Джеймс Дьюар теряли свои места в университете, и если для второго это было уже в большей степени безразлично из-за возраста, то для первого означало необходимость снова искать себе кафедру, а это было делом совсем нелегким…
Изыскания Максвелла, можно сказать, были принесены в жертву националистическим спорам и его работы, впоследствии так расхваливаемые, получили гриф абстрактности, их рассматривали исключительно, как математическую абстракцию, не имеющую никакого смысла. К этой абстракции сумел прикоснуться и русский ученый Столетов, побывавший в лаборатории Максвелла. Столетов, который сам не был долгожителем, тем не менее пережил Максвелла на десять лет. Максвелл умер в возрасте 48 лет, без веры в четвертое измерение и в «эфирное» существование человеческой души. Незадолго до смерти он пишет «Парадоксальную оду», в которой разъясняет идею «невидимой всленной»:
Мой дух пленен в двойном узле
Умом, в Невидимом живущим,
И твой, как каторжник в тюрьме,
Повязан им узлом прочнющим...
От пут тех есть освобожденье.
Оно — в четвертом измеренье...
Для него четвертым измерением, несущим духу и сознанию Максвелла освобождение от бытовых стен университетской тюрьмы науки, стала смерть. Аминь!