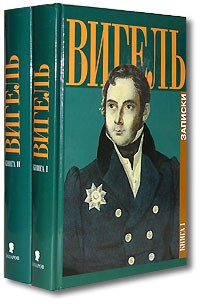Больше рецензий
16 октября 2018 г. 19:34
423
4 ведь я русский по матери, а из русского человека можно сделать всё, чем ему велят быть: он ко всему пригодится…
РецензияФиллип Филлипович Вигель, рожденный при Екатерине, начал службу при императоре Павле, продолжил при Александре I и окончил ее при Николае. Его мемуары как историческая хроника очень интересны. Вот основные пункты из мемуаров Вигеля, которые достойны внимания:
1. При Екатерине образование строилось таким образом, что к 15 годам подростки считались уже людьми образованными и их можно было зачислять на военную службу. Но службу они не несли на самом деле, а только числились. Была еще другая странность, которую можно даже назвать злоупотреблением: в каждом гвардейском полку сотнями считались сержанты, вахмистры, унтер-офицеры, каптенармусы, капралы; все они были малолетние, живущие дома и ожидающие очереди к производству. Император Павел прекратил эту традицию фиктивной службы, что привело к бегству подобных «вояк» из армии и заполнению ими вакансий на гражданской службе. В тоже время, руководящие чины набирались из гатчинских батальонов, куда обычно ссылались самые никудышные военные для увеселения наследника. Это были по большей части люди грубые, совсем необразованные, сор нашей армии: выгнанные из полков за дурное поведение, пьянство или трусость, эти люди находили убежище в гатчинских батальонах и там, добровольно обратясь в машины, без всякого неудовольствия переносили всякий день от наследника брань, а может быть, иногда и побои. Государственная служба, таким образом, получила толчок к развитию, а военная – упадок. Это происходило в одно время с подготовкой к присоединению Польши к Российской империи, государства, «коим управляли женщины, иезуиты и жиды, то есть, страсти, обман и корысть».
2. Наставников Вигеля в юности был баснописец Крылов, который нашел приют в имении князя Голицына. Вот как описывает мемуарист И. Крылова: «в поступи его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжестве, та же смышленость, затейливость и ловкость. Если б о Крылове мне сделали сей вопрос, то я должен бы был отвечать отрицательно. Чрезмерное себялюбие, даже без злости, нельзя назвать добротой; в деяниях Крылова, в его, разговорах был всегда один только расчёт; в его стихах чистота, стройность и размер, везде ум, нигде не проглянет чувство, а ум без чувства тоже что свет без теплоты. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостаивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Если б его спросили, какое слово в русском языке ему кажется нежнейшим, то я уверен, что он бы отвечал: кормилец мой. Что делать! Видно, сердце у него в желудке; из сего источника почерпнул он большую часть своих мыслей, и надобно сказать правду, он им не худо был вдохновен. Уроки наши проходили почти все в разговорах; он умел возбуждать любопытство, любил вопросы и отвечал на них также толковито, также ясно, как писал свои басни. Он не довольствовался одним русским языком, а к наставлениям своим примешивал много нравственных поучений и объяснений разных предметов из других наук».
3. Александр I – первым, что сделал новый император было утверждение новых нарядов, как для военных, так и для госслужащих. В военном наряде сделаны перемены гораздо примечательнейшие, широкие и длинные мундиры перешиты в узкие и через меру короткие, едва покрывающие грудь; низкие отложные воротники сделались стоячими и до того возвысились, что голова казалась в ящике, и трудно было ее поворачивать. Перешли из одной крайности в другую, и все восхищались новою обмундировкой, которая теперь показалась бы весьма странною. Всех уволенных ранее офицеров вернули в армию. Сотням нажалованных генералов невозможно было дать мест по чину: им велено числиться по армии с жалованьем, в ожидании назначения; во всех полках удвоился и утроился комплект штаб- и обер-офицеров. Франция начала проводить усердную обработку менталитета российских граждан и Эрмитаж был одним из каналов, чрез кои начало вливаться в Россию могущество Франции. Именно тогда стало возможным слышать насмешки над религией, хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу от таких людей, которые были совершенные неучи. Причем, все это касалось глубинки России. Киев от заблуждений Запада был защищаем ненавистью и презрением к Польше, откуда могли они в него проникнуть; а в Петербурге и в Москве были в большинстве только людьми, напуганных ужасами европейской революции. При сборе ополчения в 1812 году в глубинке был не такой подъем национального самосознания, как в крупных городах. В Пензе, например, ополчение возмутилось в самую минуту выступления против неприятеля. Император Александр учредил министерства. С учреждением министерств можно сказать уничтожался весь прежний ход дел в государстве и установлялся совершенно новый. Словно Горбачев той эпохи, Александр спешил удивить свой народ и второпях не нашел ничего лучшего, как списать точь-в-точь учреждение министерств, коим Французская Директория надеялась поболее людей привязать к своему существованию, со всем преувеличенным его содержанием, со всем излишеством должностей. Он также вывел на первый план Сперанского. При Александре вдруг пешеходство вошло в моду: сам Царь подавал тому пример. Все стали гоняться за какою-то простотой, ордена и звезды спрятались, и штатские мундиры можно было встретить только во дворце. Одеваться стали все, как французы. «Итак, французы одеваются, как думают; но зачем же другим нациям, особливо же нашей отдаленной России, не понимая значения их нарядов, бессмысленно подражать им, носить на себе их бредни и, так сказать, их ливрею?» За неимоверную цену стали доставать резные камни, оправлять золотом и вставлять в браслеты и ожерелья. Это было гораздо античнее.
4. Путешествия и великие русские открытия эпохи Александра I оказывается были ничем иным, как западным проектом, да еще и иезуитским. Посольство в Китай было отправлено без всяких целей, наудачу. «Молодость царя имела нужду в деятельности, а продолжающийся мир с европейскими державами давал ей мало пищи; тогда в благородных порывах своих обратился он к Востоку». Заслуга в организации плаваний Крузенштерна и Лиснянского принадлежит иезуитам. Это были те самые иезуиты, которые при Екатерине и до неё, при польском правительстве, имели столицу свою в Полоцке, а со времен Павла поселились и в Петербурге. Их предложения были чистосердечны: не зная никакой национальности, сия папская милиция готова всегда удружить правительству, коего покровительством она пользуется или от коего имеет право его ожидать. Сам Патер Грубер, генерал Ордена, чрез миссионеров своих, имевших тогда большое влияние в Пекине, приготовил китайское правительство к благосклонному приему делегации, в состав которой входил и Вигель. Позднее Дюма напишет роман о путешествии одного месье из Казани в Полоцк и наполнит его придуманными ужасами и страшными описаниями русской действительности, ничего общего не имеющими с настоящей реальностью. Но роман станет популярным и все будут охотно считать его за историческую правду.
5. Сперанский - он не любил дворянства, коего презрение испытал он к прежнему своему состоянию; он не любил религии, коей правила стесняли его действия и противились его обширным замыслам; он не любил монархического правления, которое заслоняло ему путь на самую высоту; он не любил своего отечества, ибо почитал его не довольно просвещенным и его недостойным. Тайный недруг православия, самодержавия и Руси, и в ней особенно одного сословия, он однако же их не ненавидел, в будущем довольствуясь мысленно их падением, не истреблением. Благоразумный человек, меняясь с обстоятельствами, потихоньку, неприметным образом, перешел из почитателей Великобритании в обожатели Наполеона, из англичанина сделался французом. Вскоре потом назначен он товарищем министра юстиции и управляющим Комиссией составления законов. Побудил Александра к созданию государств в государстве. Отставка Сперанского была произведена в тайне. Непонятно также казалось молчание, хранимое ведомостями о столь важной перемене, тогда как они всегда возвещали об отставке чиновников, невысокие места занимавших.
6. Накануне войны 1812 года, Александр I решает ввести войска в Финляндию. Итогом войны стало небольшое приращение земель. Но никто не мог понять потом, зачем Выборгскую губернию царским указом отняли у России и, присоединив к новым завоеваниям, составили из них какое-то отдельное от неё государство, под названием Великого Княжества Финляндского. Из-за страха перед новыми правителями, большинство которых было из шведов, русские люди вынуждены были за бесценок отдавать свои имения в Финляндии и бежать оттуда. Александр положил начало созданию так называемых маленьких государств в государстве. Говорили, что мысль о маленьких царствах, ему подвластных, а от России вовсе независимых, родилась в его голове с подачи Сперанского. Никто не спросил: «Какое право имеете вы, государь, можно было бы сказать ему, без бою, без всякой видимой причины, без многократных поражений и следствия их (вынужденного примирения), не для спасения целого государства, по одному произволу вашему, отрывать от России области, не вами, а вашими предками и их подданными приобретенные?». По самому названию, присоединение Старой Финляндии к Новой показалось делом весьма естественным, простой правительственной мерою, совсем не политическим фактом. Также, накануне войны были отправлены в опалу комиссариатский и провиантский армейские отделы. Из-за воровства отдельных чиновников, все служащие в них были лишены чести носить общий армейский мундир и потеряли всякие привилегии. Начался отток кадров из этих полков. Граф Аракчеев, опасаясь, чтобы малое число честных людей не поспешило оставить службу, выпросил, вопреки дворянской грамоте, запрещение подавать в отставку даже и тем, кои найдены будут совершенно исправными. Также была завершена смена формы – «в новых мундирах своих видели французскую ливрею и, с насмешливою досадой поглядывая на новое украшение свое, на эполеты, говорили, что Наполеон у всех русских офицеров сидит на плечах». Ассигнационный рубль упал так низко, что для людей, живущих одним жалованьем (госслужащих) было оно сущим разорением; кажется, с этого времени начали чиновники вознаграждать себя незаконными прибытками.
7. Как только началась война с французами, то Россия открыла двери «сотрудничества» по всем направлениям с Англией. В первую очередь с проповедниками. «В числе их находился и шотландец Пинкертон, не знаю хорошенько: основатель ли или главный двигатель Библейского Общества. Для введения его к нам нашел он готовые орудия, исключая духовных лиц, Лабзина с Сионским Вестником». Александру импонировало то, что ему приписывали роль объединителя христианского мира в одно согласное семейство. В Петербурге духовенство всех исповеданий покорилось его воле, и митрополит римско-католических в России церквей, Сестренцевич, начал восседать между схизматиками и еретиками. После войны Александр I был уж очень милостив к полякам, которые жестоко убивали русских на этой войне. Началось постепенное уничтожение русского быта и замена его на западный. «Примирение с милою Францией казалось искренним, вечным. И за что их ненавидеть, голубчиков французов? Ведь они против воли увлечены были ненасытным честолюбием вождя своего. Забыты все их злодеяния, их несносное хвастовство, их лживые бюллетени, в которых русских топтали они в грязь. Все вины взвалены на одного Наполеона: и поделом ему, разбойнику!». После взятия Парижа, русские гвардейцы на английских кораблях отправились сперва в Англию, где провели два дня (промывка мозгов?), и только потом были направлены в Россию. Александр, словно понимая, что сдал свою страну, отказался проходить через триумфальные ворота и приказал впереди себя идти этим самым гвардейцам, побывавшим в Англии. Открылись «окна возможностей» для таких, как Нессельроде и Горчаков.