22 марта 2013 г., 11:24
841
Мнение: Михаил Веллер «Выбирать должен школьник, а не Путин»

Михаил Веллер известен тем, что его мнения о мировой литературе неизменно дерзки и доказательны. А ещё тем, что он один из немногих современных российских авторов, которых школьники охотно читают без всяких списков литературы — тех самых списков, вокруг которых сегодня ломается столько копий.
— Как по-твоему, всякого рода «Сто книг для школьника», в том числе по выбору президента, — это вещь нужная?
— Прежде всего я убеждён, что выбирает их в конце концов не президент — он не может бодрствовать 24 часа в сутки, ему надо поспать, поесть и поплавать. Это делают советники, свято убеждённые в волшебности и привлекательности цифры 100. Сто великих евреев, сто знаменитых куртизанок — такой макулатурой в девяностые полнились все лотки.
Почему не пятьдесят великих книг, в конце концов? Во-вторых, есть сильное подозрение, что выбираются эти книги по принципу литературной — и политической — моды, чтобы не сказать конъюнктуры. Это касается как программного, так и внеклассного чтения. В семидесятые туда входила «Повесть о настоящем человеке», в девяностые рекомендовали Сорокина, сейчас что-нибудь историческое и державное...
По-моему, круг чтения школьника вообще не должен зависеть от веяний на дворе. Литературу для школьного чтения должны выбирать по трём несложным принципам. Во-первых, она должна быть увлекательной. В этом списке на первых позициях должны быть северные и бродяжьи рассказы Джека Лондона. «Три мушкетёра» и «Граф Монте-Кристо». Стругацкие. Во-вторых, она должна быть познавательной — и увлекательно-познавательной, как Жюль Верн, известный сегодняшним детям главным образом по названиям. А запасы исторической, географической, популяризаторской детской литературы в советское время были огромны — в диапазоне от энтомологических «Приключений Карика и Вали» Яна Ларри до историософских романов Ефремова. И в-третьих, эта литература должна формировать у ребёнка позитивную картину мира, позитивную философию жизни, если хочешь.
— Что ты вкладываешь в это определение?
— Антидепрессивную, только и всего. У школьника должно быть ощущение, что все его проблемы разрешимы, если напрячься; что он хозяин своей судьбы, что жизнь в конце концов — превосходное занятие, а альтернатива малоприятна.
Я слова дурного не скажу ни о Кафке, ни о Камю — допускаю даже, что рассказы Кафки вполне могут быть интересны школьнику как страшные сказки; это касается и пьес Ионеско, и даже прозы Беккета, — но при всех их выдающихся достоинствах они внушают, что мир изначально трагичен и лучше бы, знаете, не родиться. В иных душевных состояниях и такая литература целебна, но ребёнку лучше получать витамины. Книги, которые, как О. Генри, Марк Твен, Александр Грин, рисуют мир азартным местом, полным неожиданностей. Как сказано у Грина: «Меня дразнит земля». Вот так она должна манить и школьника.
— Что ты думаешь о советской литературе? Все спорят: оставлять, не оставлять...
— В тысячелетней истории России советский период был исключительно значимым и, возможно, самым интересным. Это лишено моральных акцентов, вообще любых оценок — просто интересно, один из высших взлётов. И я не понимаю, как можно лишать школьника рассказов Казакова и Нагибина, повестей Аксёнова и Гладилина, увлекательнейшего крымовского «Танкера «Дербент», в конце концов... Это уж не говоря о Бабеле: он что, не советский писатель? Французский, может быть? Топчите эту прозу, высмеивайте, спорьте с ней — но дайте школьнику с ней познакомиться, чтобы он собственной головой решал, что это было.
Я вообще думаю, что детям надо доверять: собственный круг чтения они составят сами. Мы наивно думаем, что читают те школьники, которым подсунули правильный список. А читают прежде всего те, кто растёт в читающей семье. А чтобы у родителей были время и силы всерьёз думать о литературе и говорить о ней с потомством — хорошо бы им деньги получать и не дрожать за завтрашний день. Поэтому оптимальный вариант таков: дать учителю предельно широкий круг чтения — раз в пять больше программы — и предоставить самому выбирать, что включать в программу. Навязывать профессионалу правила — последнее дело.
— Есть ещё вечный спор: включать современных авторов, вытесняя при этом классиков, или ограничиться бесспорными именами?
— Послушай, но классика на то и классика, что её не исключишь. Ребёнок так или иначе, не в школе, так после столкнётся с прозой Лескова или Куприна. Что касается современников — поскольку тут табели о рангах ещё не выстроены и литературную борьбу никто не отменял, я бы предложил семинары, факультативы, кружки... Современный школьник вообще одинок, взрослые мало с ним говорят, дел уйма, — поэтому дети жадны до интересного общения. Предложите им собираться раз в неделю и обсуждать Улицкую, Пелевина, Мориц — тут есть о чём поспорить. Скажу больше: это тот случай, когда заставлять читать всё это не надо. Литература «про сейчас» очень востребована — дайте только намёк, и ребёнок не оторвётся от романов Иванова или рассказов Прилепина.
— А из себя что бы ты рекомендовал?
— Ещё бы не хватало! Что я тебе — Путин?
для журнала «Собеседник»
Читайте также
Комментарии 85
Только корневые

Поэтому оптимальный вариант таков: дать учителю предельно широкий круг чтения — раз в пять больше программы — и предоставить самому выбирать, что включать в программу. Навязывать профессионалу правила — последнее дело.
Миллион раз - да!
И подпишусь под каждым словом из интервью :))

А мне, кроме шуток, статья не понравилась. Не могу не согласиться с тезисом о конъюнктуре, как основе "списка имени ВВП", но эти вот призывы к оптимизму и борьба с депрессией... Школьники разве не люди, чтоб не иметь права на депрессию? Меня, например, этот казённый оптимизм советской детской литературы отпугивал даже в самом нежном возрасте. С утра тебе вкручивают на уроках, что мир - азартное место, полное приключений, а вечером марш гнилую капусту с поля таскать, иначе зимой жрать будет нечего. Даже не в капусте дело, а в табу на обсуждение каких-то поступков и состояний. Помню, в начальных классах мы с братом любили книжку "дети на ветру". Перевод с японского: отец попал под суд, прогнозы очень неблагоприятные, и парнишка, сидя на уроке, вдруг замечает, что у всех его одноклассников неестественно выглядящие, волчьи немного уши. И понимает, что они - оборотни. Меня как ударило: вот оно! Естественно, в советской книге советским детям ничего похожего чувствовать не полагалось. Но так есть.

Вспоминаю себя в школе - уроки литературы не то что привили любовь к чтению, а скорее даже, отбили напрочь все позывы к этому. Литература , входящая в школьную программу, была для нашего возраста неувлекательной. Сейчас - да, мои ровесники с удовольствием читают классику, а в то время спасала только невероятная энергия и любовь к своему предмету учителя литературы. Если бы не жаркие, с пеной у рта, обсуждения на уроках той нудятины (простите, но в школе это воспринимается именно так), многие и не читали бы вообще ничего.




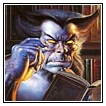





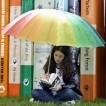








Боюсь, выбор школьника будет весьма скуден