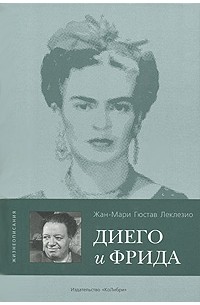Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Пролог
Пятого октября 1910 года, когда Порфирио Диас готовится отпраздновать столетнюю годовщину независимости Мексики с невиданной пышностью, достойной абсолютной монархии, происходит событие, не имеющее прецедента в мировой истории и до основания потрясшее эту страну, где ничего не изменилось со времен завоевания индейских царств испанскими конкистадорами. По призыву Франсиско Мадеро – его "план Сан-Луиса" аннулирует итоги фальсифицированных выборов Порфирио Диаса и дает сигнал к началу восстания – народ берется за оружие, и в Мексике начинается короткая и неистовая война, которая уносит более миллиона жизней и опрокидывает существующий порядок.
Революция в Мексике – первая социальная революция, предвестница революции в России, положившая начало новой эпохе. Это стихийно возникшее движение охватило всю страну, потому что его подлинные герои – крестьяне. В 1910 году Мексика еще остается такой, какой была при испанских поселенцах: громадную крестьянскую массу эксплуатируют крупные землевладельцы, подавляет горстка местных властителей с их вооруженными отрядами. Земля поделена между пятнадцатью асьендадо, чьи поместья достигают необъятных размеров, как, например, асьенда Сан-Блас в штате Синалоа или асьенда Прогресо в штате Юкатан, площадью свыше миллиона гектаров; помещик пользуется неограниченной властью, он является хозяином рек и индейских деревень и даже строит собственную железную дорогу, чтобы объезжать свои гигантские владения. Богатства этих людей невообразимы. Они выписывают воспитателей для своих детей из Англии, белье в стирку отсылают в Париж, а громадные несгораемые шкафы заказывают в Австрии.
Мексика в то время – все еще покоренная страна, где господствуют иноземцы. Они держат в своих руках промышленность и торговлю: шахты и цементные заводы принадлежат американцам, оружие и скобяные изделия производят немцы, продовольствием торгуют испанцы, мануфактурой – французы; они же контролируют оптовую торговлю – знаменитую сеть магазинов "Барселонет". Железными дорогами владеют англичане и бельгийцы, а нефтеносными участками – американские династии нефтепромышленников: Дохени, Гуггенхаймы, Куки.
При Порфирио Диасе Мексика живет по европейскому времени. Искусство и культура подражают европейским образцам. Застраивая Мехико, диктатор вдохновлялся парижскими авеню и площадями, и в каждом городе есть павильоны, где оркестр играет вальсы и кадрили, как в Австрии. Искусство, фольклор, культура коренного населения находятся в полном забвении, если не считать необходимых цитат из героического прошлого ацтеков, которое воскрешает на своих картинах художник Сатурнино Эрран, создающий композиции в античном духе, где индейцы одеты греческими гоплитами, а женщины теуана – римскими матронами.
Поздний период правления Диаса отмечен помпезной безвкусицей, смешной и в то же время жутковатой. Большинство писателей и художников, от Васконселоса до Альфонсо Рейеса, от Сикейроса до Ороско бегут от этой удушливой атмосферы придворного искусства и стремятся в Европу за воздухом свободы.
Революция, начавшаяся по сигналу Мадеро, – не стихийная вспышка насилия. Она неодолима и трагична, это мощная волна, поднявшаяся в ответ на жестокость завоевателей и духовное порабощение индейцев, на все, что успело накопиться за четыре столетия. Во главе этой революции встали два человека, которым нет равных в истории. Необузданные, невежественные, непримиримые, они – плоть от плоти мексиканского народа. Революционная волна вознесет их на небывалую высоту, в Национальный дворец на главной площади Мехико, где некогда жили божественные владыки Теночтитлана и испанские вице-короли.
О мятежнике Франсиско Вилье, пастухе, ставшем генералом "южной дивизии", Джон Рид в своих очерках "Восставшая Мексика" пишет так: "Это самый естественный человек, какого я когда-либо видел. Естественный в том смысле, что он более всего близок к дикому зверю".
Эмилиано Сапата, "Аттила Юга", – абсолютный романтик революции, индеец, который сражается "за землю и за свободу" во главе армии крестьян, вооруженных мачете, в сомбреро с приколотым образком Пресвятой Девы Гваделупской. "Он высокий, худощавый, – так пишет о нем Анита Бреннер в 1929 году, – одет в простой черный костюм с ярко-красным шейным платком; на его костистом лице сквозь кожу проступают углы, и само лицо с острым подбородком похоже на перевернутый треугольник; серые глаза смотрят из-под низкого лба тусклым отстраненным взглядом; немногословный чувственный рот с решительной складкой, и над ним – огромные вислые усы, как у китайского мандарина" ("Idols behind Altars", p. 216).
Когда в Мексике вспыхивает революция, Диего уже двадцать четыре года, он далеко – стремление к свободе в искусстве привело его в кубистский Париж – и не может участвовать в событиях. Он может лишь приветствовать падение старого тирана; а тот, по иронии судьбы, изберет местом изгнания город, где живет художник, которому суждено воспеть революцию. Фриде Кало исполнилось три года, когда прозвучало воззвание Мадеро, и события в Мехико почти не повлияли на ее жизнь в Койоакане.
В сущности, оба они, и Диего и Фрида, прежде всего провинциалы. Он родился в Гуанахуато, городе шахтеров, куда не проникал ветер перемен, где в общении с индейцами была принята слегка пренебрежительная фамильярность. Она родилась и выросла в Койоакане, который Матильда, ее мать, называет "деревней", в овеянном печалью городе "Маркиза" Эрнана Кортеса, где время течет медленно, где почти ничего не происходит, кроме еженедельных базаров, куда из окрестных деревень Хочимилко, Сан-Херонимо, Истапалапа, Мильпа Альта собираются крестьяне-индейцы.
Диего, как впоследствии и Фриду, неодолимо влечет к себе Мехико. Не сегодняшний мегаполис, западня для мучеников индустриальной эры, но тот ослепительный, беззаботный, бурлящий город, в котором после победы революции встречаются студенты, авантюристы, влюбленные, мыслители и честолюбивые политиканы, теоретики-искусствоведы и те, кто на практике постигает азы современного искусства.
После победы революции мексиканская столица внезапно превратилась в открытый город. Путь в Мехико проложили огромные толпы, пришедшие за повстанцами Вильи и Сапаты и заполонившие собой центр и площадь Сокало. Каждый день со всех концов страны прибывают крестьяне, приезжают любопытствующие, которые бродят по улицам, заходят на рынки, в городские сады, собираются вокруг памятников старины, доступных прежде только избранным, встречаются, знакомятся. Уличных торговцев, ресторанчиков под открытым небом, дешевых гостиниц, общественного транспорта становится все больше. Мексиканцы осознают свою самобытность, открывают для себя национальное искусство и народную музыку. Из уст в уста передаются "корридос" – только что сложенные стихи, прославляющие героев революции.
Мехико Диего и Фриды. Город, где царит дух творчества, поиск неизведанного, жажда новизны. Пожалуй, никакой другой город не становился таким живым символом революции, маяком для угнетенных народов Америки. В двадцатые годы нашего века мексиканская столица была для искусства и творческой мысли такой же питательной средой, как Лондон во времена Диккенса или Париж в эпоху расцвета Монпарнаса.
В августе 1926 года при ремонте Национального дворца рабочие обнаружили остатки большой пирамиды Теночтитлана, на вершине которой находится камень, изображающий солнце, – так исполнилось древнее пророчество, гласившее, что власть предков вернется к потомкам в день, когда возродится великий храм, увенчанный солнцем. Храм открыли, когда Диего Ривера начал роспись Национальной школы земледелия в Чапинго, и это открытие имеет глубокий символический смысл. Настало время вернуть к жизни культуру индейцев.
Сама по себе идея была не нова: интерес к наследию древних возник еще в эпоху Максимилиана и заключал в себе нечто реакционное, роднившее его с кастовым чванством испанских колонистов. С другой стороны, неумеренное восхваление ацтекского прошлого – пышный монумент, воздвигнутый в конце XIX века последнему властителю Мехико Куаутемоку, – должно было заслонить бедственное положение, в каком находились выжившие представители коренных народностей. В то время когда статую этого юного героя ацтекского сопротивления украшали цветами, правительство Порфирио Диаса ссылало индейцев яки в Гавану, а войска генерала Браво предавали огню и мечу деревни майя в Кинтана Роо.
В каком-то смысле Диего и Фрида воплотили в себе изъяны и достоинства этой эпохи, когда заново создаются мексиканские духовные ценности, возрождаются искусство и творческая мысль доколумбовых цивилизаций. Диего одним из первых заговорил о связи революционного будущего Мексики с ее индейским прошлым: для древних жителей Мексики, пишет он, "всякое действие, начиная от эзотерических ритуалов жрецов и кончая самыми обыденными повседневными делами, было наполнено возвышенной красотой. Камни, облака, птицы и рыбы – все было для них источником наслаждения и проявлением Великой Сущности".
Диего и Фрида посвятят всю свою жизнь поискам этого идеала индейского мира. Именно этот идеал зажигает в них революционную веру, именно благодаря ему в самом сердце разрушенной гражданской войной страны прошлое засияло невиданным светом, который притягивает взоры всей Америки и становится обещанием будущего величия.
Мехико Диего и Фриды – город, распахнутый во внешний мир, дающий огромные возможности: он словно картинная галерея, где улицы – еще не завершенные произведения искусства.
Здесь, в центре города, на ограниченном пространстве (между улицами Архентина и Монеда, кварталом Сокало, садом Аламеда и улицей Долорес) разыграются главные события их жизни. На улице Архентина находится Подготовительная школа, где Диего пишет первые фрески, и там же он впервые встречается с Фридой. Через две улицы, на углу Архентина и Белизарио Домингеса находится министерство образования. Рынок Сан-Хуан, у которого случилась авария, искалечившая Фриду, – через шесть улиц, к западу от Сокало, а больница, куда ее доставили, – по ту сторону Реформы, возле Сан-Косме. Национальный дворец, которому Диего отдал тридцать лет жизни, находится в самом сердце города, там, где некогда возвышались чертоги Монтесумы, властителя Теночтитлана. А Дворец изящных искусств, похожий на белый катафалк, где мексиканский народ отдаст последние почести Фриде, а затем Диего, – всего в нескольких шагах от сада Аламеда, вечернего пристанища влюбленных.
Есть что-то мистическое в этой связи между городом и двумя художниками-провинциалами: их объединила вера в революцию, стремление восславить индейское прошлое Мексики.
В то время все кажется возможным. От города, от каждого здания, от каждого лица веет торжествующей юностью. Никакой другой народ не давал такого отчаянного отпора власти денег и угрозам империалистов. Все идеи и все иллюзии этой юношеской поры рождаются в Мехико и нигде больше: народное искусство, возрождение индейской культуры, ожидание новой эры, когда благополучные страны Севера наконец воздадут должное угнетенным народам Юга. Это поистине исторический момент – перед внутренним взором людей еще не успели померкнуть ослепительные образы повстанцев, марширующих по улицам, и для народов, так долго прозябавших в безысходной нищете и несправедливости, засиял первый проблеск надежды.
История Диего и Фриды – история любви, неотделимой от веры в революцию, – не ушла в прошлое, потому что она стала частицей Мексики, влилась в повседневный городской шум, в запахи улиц и рынков, в красоту детей из бедных кварталов, в эту мягкую грусть, овевающую в сумерки древние храмы и самые старые в мире деревья.
Истинные шедевры не меняются со временем, они не стареют. Сегодня в мире, пережившем столько разочарований, где красоту индейских культур каждый день попирает безликое уродство торговых империй, образы, оставленные нам Диего и Фридой, – образы любви и стремления к истине, в которых чувственность всегда слита со страданием, – все так же впечатляющи, все так же необходимы. В истории Мексики они сияют как живые факелы, и их красные отблески – это чистые и безгрешные сокровища обездоленных детей.