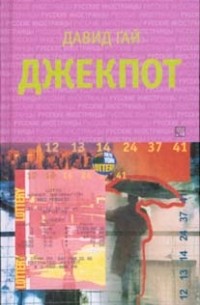Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
© Д. Гай, 2021
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021
Jackpot (джекпот) в переводе с английского – куш, крупный выигрыш в лотерее.
«…Выиграв в лото,
ты будешь счастлив, как никто!»
Читая роман, человек поглощает чужую жизнь, примеряет на свой лад: а как бы я поступил, что предпринял на месте героя? Примерка ничего человеку не стоит – все едино жизнь героя течет по своему руслу, а читателя – по своему, не пересекаясь. И, однако, примерка не бывает лишней: человек прикидывает умом, что такое с ним случилось, сможет ли избежать ошибок, повести себя иначе, коль судьба выкинет коленце и сподобит влезть в чужую шкуру.
Книги как дома: в одних хочется поселиться надолго, в других – на какое-то время, в-третьих, вовсе не хочется, едва приоткроешь дверь. Не знаю, не ведаю, каким кому покажется дом, выстроенный для героя этого повествования Кости Ситникова. Но, может, и впрямь мимо этих дверей человек не пройдет, а, заглянув внутрь, постарается задержаться, пока не обживет все углы. Возможно, не в самой литературе и ее ухищрениях как таковых причина (автору об этом предмете негоже судить – дело это читателя), а в том, что не прошедшему мимо непременно покажется важным поглотить эту жизнь и прикинуть на себя – уж больно заманчиво выглядит. А уж что приключилось с Костей, так это его печаль, я бы куда умнее всем распорядился, самонадеянно подумает каждый. И пускай себе думает: вольному – воля.
Yes!!! Да, да, да!!! Толчком и обмиранием, горла судорожным перехватом, ударами пульса, гулкими и редкими, как при брадикардии, выпученными, все еще не верящими зрачками – провозвестниками невозможного, неправдоподобного, несбыточного, примстившегося – и уже реального. Чуда. Три карты, три карты… Германн здесь ни при чем. Здесь – Шесть Цифр. Слепой жребий, прихоть судьбы, выбор из десятков миллионов, ложащихся спать и просыпающихся с одной и той же потаенной мыслью: а вдруг?.. Алчущих, страждущих, надеющихся. Почему выбор пал на меня, почему? Награда за долготерпение, веру в успех? Другие куда больше меня терпели, верили. Я и играл-то словно понарошку, по привычке, без азарта и страсти, вяло-безучастно. Компенсация за жизненные потери, утраты? Жена – единственная подлинная утрата, никакими деньгами, даже такими сумасшедшими, не возместить. Остальное – не в счет. Проверка, испытание, дьявольский план искушения? Но кому я нужен там, наверху? Пылинка макрокосма. Узрели меня, выделили из мириад таких же пылинок ради чего, с какой целью? I always knew I would win! (Я всегда знал, что выиграю!) Но я-то не знал! Не ведал, не рассчитывал, не предполагал. Следовательно, выделили по ошибке. По недосмотру небесной канцелярии. Следовательно, нужно остерегаться. Всех и вся. Машин на дорогах. Самолетов в небе. Кораблей в море. Прохожих в переулках. Сосулек и кирпичей. Дальних странствий. Коротких свиданий. Врачей и лекарств. Еды в ресторанах. Женщин и мужчин. Стариков и детей. Собак и лошадей. Правды и лжи. Признаний и утаиваний. Ножей и пистолетов. Ненависти и любви. Жизни и смерти. И всего остального, могущего в любой миг обернуться расплатой. Ибо все в нашем мире уравновешено, и если дается тебе непомерно много, то и отнимается столько же.
Ну, братец, это ты загнул. По-твоему, нет баловней судьбы, одариваемых сверх меры просто так, ни за что? Есть, и немало. Впрочем, куда меньше, чем тех, на кого несчастья сваливаются беспричинно, одно за другим. Ты включен в разряд счастливчиков. Цени и перестань мерехлюндии разводить. Радуйся жизни, возможностей у тебя теперь – хоть отбавляй.
1
Чем напряженней напряжение, тем расслабленней расслабление, и чем круглее угол, тем углее круг…
Он просыпается без омерзительного верещания заходящегося в пароксизме будильника. Чувство времени развито в нем отменно, он никогда никуда не опаздывает и потому никогда никуда не спешит. Скучное достоинство, рад бы променять на разгильдяйство, расхлябанность, игривую легкомысленность – до определенного предела, конечно, – ан не выходит. В святящемся окошке таймера видеомагнитофона – без пяти семь. Других хронометров в спальне нет, за исключением часов наручных на прикроватном трюмо, лень за ними вялую со сна руку тянуть, и надобности нет – таймер все показывает. На самом деле без пяти шесть: когда сезонное время менялось, час добавился, поправлять не стал, ну и ладно, так удобнее даже. Приятно сознавать, что в окружающем тебя замкнутом мире на шестьдесят минут, три тысячи шестьсот секунд меньше, а значит, возможность появляется, в постели донеживаясь, впустить разрозненные мыслишки в голову.
Чем напряженней напряжение… Экая белиберда. Кто придумал, интересно? И что в виду имел – работу, секс? Наверное, не работу. По поводу работы зубоскалить – вроде как дурью маяться. Наличие ее дает в Америке возможность худо-бедно жить. Любить ее не за что, однако всуе лучше не упоминать, а то, не дай бог, потеряешь. Секс – другое дело, тут сколько угодно лясы точи. В нем как в спорте: для победы иногда одного-двух сантиметров не хватает.
Тоска зеленая, неохота в госпиталь тащиться. В той стране, откуда он приехал, это больницей называют. А здесь – госпиталь. Больница от корня «боль». А госпиталь от какого корня? На свете нет такой тоски, которой снег бы не вылечивал… Когда выпадет снег в Нью-Йорке, и выпадет ли? Осень потрясающая стоит, совсем как в Подмосковье, по утрам сметает он с капота «Тойоты» желтые узорчатые листья. Листья падают с клена-ясеня… А по снегу соскучился. Какие были сугробы тогда в Переделкине! Решил попрощаться с Пастернаком, увязал по пояс, пробираясь к могиле у трех сосен. Последняя зима перед отбытием в эмиграцию, девять лет назад. Раньше декабря снега в Нью-Йорке не жди. Где-нибудь перед Рождеством наверняка ураган обрушится, езда ужасная будет, если вообще машины с места стронутся. Для американцев снегопад концу света подобен.
Тем расслабленней расслабление… Враки. Не бывает расслабления, когда ты в капкане и выход один – через «не могу» учиться и работать, работать и учиться. Тому, что так далеко от сути твоей и что поминальным звоном звучит по прежней жизни. Технолог по радиоизотопной медицине. Брр… Тебе под полтинник, у тебя семья, ты самый старший в группе таких же иммигрантов: индусов, русских, филиппинцев, еще там кого-то. Ты приехал и понял, что ничего не знаешь и не понимаешь в стране этой. В тебе страх угнездился (который покинул, мнится, совсем недавно, а многих и вовсе не покидает). Что делать, чем заниматься? Не кропать же сценарии научпоповских фильмов – тут они без надобности. В «Новом русском слове» через две недели после приезда статью напечатал. На полосу. «Психоз» называлась. О состоянии умов в России. Семьдесят пять баксов гонорар. Плюнул и пошел на курсы технологов. Один знакомый надоумил, спасибо ему.
Пора. Выпростав ноги из-под пледа, встает, подходит к шкафу с зеркалом. Я утром седину висков заметил и складок безусловность возле рта. Он на это не реагирует, это – уже данность. Глаза линялые, устало-потухшие. Пробует улыбнуться, нарочно скалится, корчит рожу идиотскую, как Джим Керри, – глаза не меняются, чужие, отдельно, сами по себе существуют. Нехорошие. Без блеска. Такие глаза всюду, так что Костя не исключение: рот американца заученно улыбается, а глаза… глаза обманывать не умеют – в них холодное безразличие ко всему, что его не касается впрямую. Если женщину встретишь с такими глазами – ясное дело, одинока. Может выпендриваться, жеманничать, строить из себя счастливую, но глаза выдадут непременно. А у него по какой причине блеска нет во взоре, а? Не из-за отсутствия женщины, это точно. У него Маша есть. Хотя никто не знает, надолго ли связь их, бывало уже – рвалась. Но в общем, если глаза исключить, нормально он выглядит. Некоторые даже сходство в нем находят с Клинтом Иствудом, разве что морщин таких у Кости нет. Главное, вес лишний не набирать. Толстеть ни в коем случае нельзя. После операции больше года прошло, держится в форме. Вот только розоватый шрам мозолистый посередине груди остался. На всю оставшуюся жизнь. Там, где пилили грудную клетку и раскрывали, как цыпленка табака. Черт с ним, со шрамом. Говорят, мужчину украшает, а женщины внимания особого не обращают.
Помахал руками, поприседал, с гантелями поупражнялся. Душ, бритье. Ставит чайник. Вода вскипает, заливает кипятком крутым овсянку, каша готова в минуту. Каплю молока обезжиренного – для вкуса. А какой вкус у такого молока… Меда сверху столовую ложку, кое-как в горло лезет. Запивает чаем, глотает таблетки, три штуки. Все, можно ехать.
Листьев за вечер и ночь ноябрьскую попадало изрядно. Кленами вся улица обсажена. Красивые листья. «Тойота» его словно в маскхалате. Жалко сметать. Включает кассету с григовским концертом, убавляет звук. В путь.
Езды в госпиталь без трафика минут сорок. В такую рань «пробок» не бывает обычно. Только если нахайвэе авария. И чего он вспоминает американскую учебу свою? С какого бока? Не любит ее вспоминать. Никогда, ни раньше, ни потом, не испытывал такого напряжения. Год всего, а казалось, вечность. Кэролайн – высокая, поджарая, с крупными чертами лица и рыжими волосами, явно выраженный англосаксонский тип. Выражение лица вежливо-бесстрастное. На любителя. Про таких говорят: не баба, а конь с яйцами. Не замужем. Наверное, многажды ловила на себе заинтересованные взгляды мужиков – в отличие от него курсантам (курсистам?) около тридцати или немногим больше. Равнодушно-невидяще в ответ. Так смотрят на один и тот же примелькавшийся, надоевший до чертиков пейзаж за окном. Курсанты (курсисты?) ее не интересуют. А может, лесбиянка? Интересно, работает Кэролайн там же, на 59-й улице, между 6-й и 7-й авеню, в Институте вспомогательных медицинских профессий, или ушла? Солидное помещение, прекрасная мебель, швейцар у входа, окна на Центральный парк смотрят. Помогает Кэролайн оформить ему заем в банке на семь тысяч под проценты. Пятьсот платит он сразу – задаток. Заем на десять лет, начнет выплачивать через полгода, после окончания курсов. Таковы правила. Найдет работу, не найдет – никого не волнует. Кэролайн всем говорит: «Мы трудоустраиваем». Черта лысого. Никто никого здесь не трудоустраивает.
Чем напряженней напряжение… Встает каждое утро в шесть, на сабвэе с двумя пересадками из Бруклина в Манхэттен, на Амстердам-авеню, в госпиталь. В восемь как штык на месте. Вначале на побегушках, потом к технике приставляют. Единственно, инъекции делать не разрешают, остальное – то же, что и технолог с лайсенсом. Смену оттрубит – ив другой госпиталь, лекции слушать. На английском. С большим трудом дается, даром что языковые курсы в Москве закончил и частные уроки брал. К полуночи измочаленный домой возвращается. И так весь год.
Банкет по случаю окончания курсов в роскошном ресторане манхэттенском. Шведский стол, выпивка в неограниченном количестве, между прочим, съеденное и выпитое им, Костей Ситниковым, примерно на сто баксов, заранее включено в стоимость учебы, в тот самый заем. На банкете впервые видит он всех выпускников из всех групп. Ни одного урожденного американца. Индусы, латиносы, азиаты, а вот и наши, русские, рюмками с водкой чокаются. Русских, на глаз, больше половины. Американцы боятся радиации, потому и не идут на курсы такие, так Костя думал раньше. Начал работать и понял: не потому не идут, что радиации боятся, а потому, что профессия непрестижная, платят сравнительно немного. Платили бы хорошо, валом повалили бы, наплевав на рентгены.
Стоп! Забыл результат лотереи взять. Теперь останавливаться возле киоска газетного придется. Можно, конечно, и вечером за результатом заехать или «Пост» купить с выигрышными номерами. Но кайфа не будет. А кайф весь в том, чтобы тихо и как бы незаметно, интригующе, с чувством победителя – а может, новый миллионер идет, почем вы знаете?! – войти в киоск и небрежно этак, без какой-либо заинтересованности особой спросить пакистанца (киоски только они и держат): I need a result, please (Мне нужен результат). Тот не переспросит, какой результат надобен, понятно ему, какой, стукнет по клавишам машинки, оттуда листочек выпорхнет. Теперь отойти на шаг-другой от прилавка, стать спиной к пакистанцу, приблизить к глазам прямоугольный клочок розовато-желтой бумажки с колонкой из шести заветных цифр и чуть ниже – с бонусом, в долю секунды сравнить с комбинациями купленного накануне билета и… И глубоко вздохнуть, в огорчении головой качнуть – повезет в следующий раз. А вечером заскочить, целый день маясь: вдруг свершилось, а я ничего не знаю, не ведаю, или в газете прочитать на ланче – нету кайфа. Знобкого нетерпения, куражного предчувствия – нету. Что наша жизнь? Игра. Впрочем, про кайф он придумал – нету никакого кайфа, играет без завода…
Останавливается возле киоска недалеко от госпиталя, не паркуясь. Выскакивает из машины, нарушив тем самым собою же ритуал установленный, вбегает в ларек, а не входит туда чинно и солидно, как подобает богачу новоиспеченному, хватает бумажку суетливо, отъезжает метров на сто и тогда только вбирает в себя цифры. Основная комбинация Костина: 5, 15, 21, 24, 29, 31 и варианты ее. Сегодня и близко не лежит. Бумажку сминает и в карман сует – на дорогу по американской уже привычке ничего не выбрасывает.
Дружок его, редактор местной русской газеты, в разговоре обмолвливается как-то: в лотерею играют одни лишь rednecks: неотесанные, провинциальные ребята, те, которые ноги на стол, пивное горлышко в рот и бейсбол по «ящику» зырят. Плебс, в общем. Про упование Костино на выигрыш в лотерею, да и не упование вовсе – так, пустяшное занятие, по привычке, по инерции, – дружок, понятно, не знает, не ведает, иначе бы удивился весьма. В целом, возможно, и прав насчет красношеих парней, но как быть с такими, как Костя, шансов не имеющих выбиться из честной бедности, а? Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот… Костя – не стыдится, однако и гордиться тут нечем. Таких, как он, пол-Америки. Выходит, он – тоже redneck, только ему тяжелее, он здесь без роду, без племени, без корней, все с нуля. Лишь утешает себя однажды придуманной сентенцией: в эмиграции – как на войне: хорошие люди становятся лучше, а плохие хуже. Ну, и что ему из того, что он вроде бы к разряду улучшившихся относится? Его улучшение денег больших не приносит. Потому и покупает безо всякой уверенности и надежды билетики с шестью цифрами. На всякий случай.
По Косте куранты сверять можно, как в Москве сказали бы. Тут не Москва, куранты отсутствуют, но точность ценится весьма. До половины восьмого обязан он появиться в своем отделении на шестом этаже. Свой ключ имеет, отпереть может любую дверь. Сейчас семь двадцать три. Первым делом набирает кодовый номер на телефонном аппарате, бросает в трубку: I am here. На месте, значит.
Трудно же далось место это с получкой годовой в пятьдесят тысяч, а с переработками и поболе, и бенефитами – страховкой медицинской, отпусками оплаченными и прочими коврижками. Сколько интервью проходил в поисках работы постоянной – и мимо, мимо. Из группы Костиной все уже устраиваются, а он из госпиталя в госпиталь носится без толку. Возраст, конечно, кому охота пятидесятилетнего брать. И английский корявый. Приходится на временных работах – то тут, то там технологов больных подменять, отпускников, беременных. Госпиталь Санта-Клара в Манхэттене, просят его два «бон скен» сделать, машина незнакомая, японская, «Хитачи». Не знает, с какого бока к ней подойти, даже включить не может, только к полудню разбирается, и ни одна сука не поможет, не покажет. Едет домой в сабвэе и плачет. Первый раз в Америке.
Через год находит место, постоянное. Случайно. Как и все здесь происходит. Подменяет заболевшую бабу, та не оправляется после операции онкологической, ну и…
Надевает халат белый с пластмассовой штуковиной специальной – радиацию в себя вбирает. Раз в месяц надо ее на проверку сдавать – сколько Костя микрорентген набрал, не превысил ли норму. Еще особое кольцо следует на пальце носить – тоже для предохранения, но Костя часто забывает надевать. Включает две гамма-камеры и компьютер для процедур разных. Теперь – в офис, взять расписание, супервайзером, его непосредственным начальником, составленное, и пять копий с него сделать. Положено. Двигается автоматически, человек-робот. Со временем всех железками заменят, вяло думает, а сам уже замеряет счетчиком Гейгера фон в лаборатории радиоактивных материалов. Простая фиксация – не зашкаливает, и ладно. Затем проверяет, как ведет себя измеритель радиоизотопов за стеклом. Катит огромный пластиковый чемодан на колесиках, в нем источник с кобальтом-57. Доставляет к себе в кабинет, открывает, берет источник голыми руками, надо бы в перчатках, да лень надевать, и кладет на камеру. Кнопку нажимает – пошла загрузка. На мониторе видит картинку – все нормально.
Расписание глянуть. Обычный день. Как вчера, месяц, год назад. В восемь часов два пациента на «бон скен» и один на «таллиум стресс-тест». Двум первым должен Костя вколоть по 25 милликюри. Шприцы с дозами доставляют в лабораторию рано утром, Костя кладет первый шприц в измеритель радиоизотопов. Превышение допустимое.
Пациент – пожилой негр, извините, афроамериканец, если следовать правилам политкорректности. Седой, скукожившийся, двигается тяжело, и взгляд внутрь себя устремлен. Костя угадывает безобманчиво: такой взгляд у онкобольных (такой же видел у собственной жены, сгоревшей от рака поджелудочной железы). У дяди Тома – про себя именует его – рак простаты, согласно сопроводиловке. Надо определить, нет ли метастазов. Пора бы выработать в себе иммунитет к чужим болезням, бедам, на то он и медик, пусть не всамделишный, не доктор, но все ж, однако никак не приучится ни на что не реагировать, а если и реагировать, то как большинство – делать вид, играть в сочувствие, и не более. Переживает, сострадает, видите ли, таким, как дядя Том. Эх, неисправимая российская интеллигентская порода, незнамо каким ветром в Америку занесенная.
Технолог вначале объяснить обязан человеку, что, для чего и зачем.
– Сэр, мы проверяем, что происходит с костями пациентов, начинает Костя шпарить английскими фразами по-залаженному, как молитву. – Для этой цели я сделаю вам укол. Доза радиоактивности – маленькая, безвредная. Не волнуйтесь относительно последствий. Моя процедура не дает побочных эффектов, аллергических реакций, не имеет каких-либо ограничений – делайте потом что хотите, и не волнуйтесь. Но понадобится время для впитывания введенного в ваши кости состава. Это займет три часа. Поэтому вам надо вернуться ко мне в одиннадцать часов. Вы ляжете под эту камеру. Я сделаю снимки. На это уйдет двадцать-двадцать пять минут. Вопросы? Нет? Дайте вашу руку для укола…
Отбарабанил, как «Отче наш». Пациент устало кивает – дескать, понял. Обычно вопросов не задают. Некоторые интересуются, откуда Костя приехал. «О, Раша!» – и поднимают брови – интересно, значит. На самом деле им до фени. Простая вежливость. Но лучше, когда вопросов не задают.
Перетягивает Костя руку дяди Тома выше локтя резинкой, ищет вену, а вен не видно. Щупает, ходит пальцами – нашел-таки одну. Втыкает иглу – в этом Костя мастер, в его отделении никто инъекции лучше не делает. Проверяет, слегка оттягивает плунжер на себя. Если кровь следом в жидкость – все окей, если нет, значит, на старуху проруха, мастер слегка промахнулся, то есть попал в вену и вышел из нее. Тогда приходится по новой. Но такое редко случается.
Со вторым пациентом посложнее. Тот же «бон скен», но в трех фазах. Иначе говоря, с наблюдением определенного участка. Подозрение на воспаление кости второго пальца левой ноги. Больному надо инъекцию – и отследить, как кровь по венам струится. За две минуты состав заполнит все сосуды этого пальца. Камера снимки сделает. Следующая фаза – как распределяется кровь в мягких тканях этого пальца.
Пациент попался наш, старичок-балагур, вертлявый, с шаловливой бородкой мефистофельской, странно идущей ему. Занятный тип, по виду полублатной (на правой руке повыше локтя углядел Костя вытатуированное: «Бог не фраер»). Отрекомендовался Ефимом из-под Винницы. В свое незавидное положение – все-таки воспаление кости – поверить не хочет. Оттого и балабонит сверх меры, со страху, наверное.
Укладывает Костя его на лежанку процедурную и начинает читать обычную молитву: «Сэр, мы проверяем, что происходит…»
– Брось ты хреновину эту, – Ефим прерывает. – Не морочь яйца ни себе, ни мне. Послушай-ка лучше брайтонские байки… Захожу в аптеку йод купить. Продавщица молоденькая, совсем соплюшка, предупреждает: «Йод американский, менее сильный, нежели русский». – «А хирурги здешние пользуются им?» – «Разумеется». – «Тогда в чем дело?» – «Бабушка одна купила вчера йод и через полчаса вернула: «Он не щиплет, сами мажьтесь этим дреком…»
Новая хохма – без паузы, как из пулемета строчит.
– Еду в автобусе, полно наших, говорят громко, научились у американцев. Слышу, двое молодцов моих лет обсуждают цены:
«Я вчера сливы купил за рубиль двадцать фунт, а на прошлой неделе рубиль десять стоили». – «А помидоры как вздорожали… Уже рубиль девяносто…» Останавливается автобус, где ему положено, и не едет. «Чего стоим?» – «Я знаю?..» – «А чего шоколадка (водитель-негритянка, значит) по салону бегает?» – «А, инвалида брать будем». Ну, вы знаете, как это делается: выдвигается платформа, на нее коляска вкатывается, поднимается в салон и так далее. Пассажиры ждут, даже наши не ропщут. Наконец, инвалида поднимают, автобус трогается, тот, кто сливы за «рубиль десять» брал, изрекает: «Да, Европа есть Европа…»
Костя от души хохочет. Уже и не помнит, когда так смеялся. Смех без причины – признак дурачины, как в пору Костиного детства говорили, или признак замечательного настроения, как иногда говорят сейчас. Причина есть – значит, настроение так себе, средней паршивости.
Несколько минут свободных, можно кофе попить и звонок сделать. Дине, дочери. Годовщина смерти Полины приближается, надо всем вместе на кладбище. Дина с мужем и сыном приедут из Эктона, это в Массачусетсе, довольно далеко от Нью-Йорка. Вдовствует Костя четыре года уже. И каждый раз, когда Дине звонит или видит ее, что достаточно редко, вспоминает одно и то же. Навязчивая картина, никуда от нее не деться. День похорон съеденной канцером Поли. Отрыдав и попрощавшись с горячо любимой матерью, Дина, оставшись с Костей наедине, вдруг слова вышептывает, страшные своей жестокой откровенностью, убийственно не подходящие моменту: «Я знаю, я детдомовская…» Как дошло до нее, кто проболтался? Удушье и тошнота, к горлу ком подкатывает (через тройку лет именно такой ком Костю в госпиталь уложит), ответ застревает. Уверен: потом Дина миллион раз об импульсивном порыве пожалеет. Вырывается под влиянием момента, переживает, страдает, вот и… Больше никогда к теме этой они не возвращаются, каждый носит знание свое в себе.
Поля после аборта не могла детей иметь. (Год как поженились, оба считали – рано потомство заводить, можно и повременить. Не простит себе этого Костя, сколько жить будет.) Сейчас бы медицина помогла, а тогда… Вот и взяли только что родившуюся девочку. Мать-подросток нагуляла и бросила. В страшной тайне совершалось. Использовал Костя киношные связи, недаром же член Союза; приятель, секретарь правления, вывел на Сергея Михалкова. «Папа», так заискивающе-подобострастно его в писательско-киношном мире называли, ходатайство сочинил первому секретарю Тульского обкома, тот искать подходящего ребенка распорядился. Нашли в местном роддоме: темноглазенькую, на еврейку смахивающую. Поля очень хотела такую. Для пущей конспирации уволилась жена «перед родами» из стат-управления и уехала к друзьям в Ялту – якобы донашивать ребеночка будущего. А в Москву вернулась с дочкой. Костины друзья-приятели, кроме, конечно, секретаря правления, и Полины подруги ни о чем не догадывались.
Сидит жена с Диной дома до трех лет, потом возвращается в ЦСУ. Дина подрастает и превращается в светленькую, почти русую, но глаза карие остаются. На еврейку, впрочем, совсем не походит. Для тех, кто их знает, ничего странного – Костя-то русский…
У Дины работа в Бостоне, сын-школьник, заботы по дому, где с новым мужем-американцем живет, видится Костя с ней не часто. Секрет своего рождения узнает Дина, скорее всего, задолго до похорон матери. Иначе чем объяснить упрямство и странную глухоту к просьбе Костиной назвать появившегося еще в Москве, за полтора года до эмиграции, внука именем Илья, в честь деда. И Полина просит. Только упирается Дина рогом, ни в какую. Отец тогдашнего мужа Дины жив, в его честь тоже не назовешь. Придумывает нейтральное – Глеб.
С мужем расстается Дина уже в Америке, просто и безболезненно. Не люблю больше, не желаю маяться. В ее духе – разом, без рассусоливаний, обрубать, и с концами. А и впрямь прежний муж холодным оказался, эгоистичным, это и раньше проскальзывало, но в Америке высветилось. Грустил он недолго, переехал из Нью-Йорка в Хьюстон и выписал из Москвы кралю. С ней, оказывается, крутил роман еще в бытность Дины. Краля не одна приехала, а с приданым – ребенком от бывшего брака. Глеба отец родной почти и не видел, летом на пару недель приглашал его во время каникул, и все.
Дина одна живет, меняет бойфрендов, мужикам она нравится – статная, окатистая, с длинными пепельными волосами. Находит американца итальянского происхождения Марио, выходит замуж и уезжает под Бостон – Марио, высокого класса программист, выгодный контракт получает, Дина, биолог по специальности, в исследовательскую фирму устраивается. Это уже после смерти Полины происходит.
Костя вслед за дочерью не едет. Работа его здесь, и потом… Есть всего два города в мире, где он может жить: Москва и Нью-Йорк. Первого теперь будто и не существует, лишь в памяти, за второй держится крепко, понимает – в любом другом месте, особенно в таком, как размеренно-скучный Эктон, сума сойдет.
Глеб участь большинства сверстников-иммигрантов разделяет: плохо, со страшным акцентом изъясняется по-русски. Костина открытая рана, не желает рубцеваться. Пока в Нью-Йорке живут, пытается он привить внуку любовь к русской речи, сказки рассказывает, истории всякие занимательные, детские книжки читает вслух. Дина его стремления не разделяет: родная речь для Глеба – английская и нечего ему мозги засорять. Телевизор и видеокассеты с мультиками процесс довершают, потуги Костины ни к чему не приводят – внук большими порциями слышит и вбирает английский язык. Где там Косте соперничать.
Удивительное дело: Глеб русские сказки не воспринимает, многое остается непонятным. Однажды интересуется: «Дедушка, что такое корыто?» – Костя читает ему «Сказку о рыбаке и рыбке». «Корыто, Глеб, это…» – и объясняет. «А разве у старика и старухи не было стиральной машины?» «Колобок» вызывает свои вопросы. «Деда, что такое «поскрести по сусекам»?» Получив разъяснение, морщит лоб: «А почему не пошли в супермаркет?» В другой раз, когда Лукоморье Костя упоминает и дуб зеленый, внук недоумевает: «Почему кота ученого на цепь посадили?» Или спрашивает: «Дедушка, когда ты был маленький, у тебя была своя спальня, как у меня?» – «Нет, Глеб, у меня не было своей спальни. Мы в такой спальне втроем жили». Глеб наморщивает лоб: покамест он безгранично верит взрослым, тем более деду. Но сейчас дед говорит нечто недоступное его разумению. «А компьютер у тебя был?» – «Нет, милый, не было. У нас дома телевизор-то появился, когда мне лет десять исполнилось». – «Дедушка, пойдем гулять», – завершает внук расспросы, будучи ввергнут в большие сомнения относительно прошлой жизни деда – что-то тут не так…
Дина глядит на Костю и качает головой: ну, ты даешь… А что он может объяснить внуку? Наврать с три короба? Представить свое коммунальное бытие в доме у Покровских ворот как рай земной? Должен же внук знать правду о своей семье. Сравнит, сопоставит, повзрослев. Но начинать с ранних лет надо.
Зато всякие истории Глеб обожает слушать. Изощряется Костя, придумывает разные ситуации. Такой фантазией буйной он явно не обладал, сочиняя в московскую бытность сценарии документальных и научно-популярных фильмов. Да она и не требовалась. И рассказы его, написанные и изданные, уступают игрой воображения тому, чем он внука развлекает; боится только одного – истощиться.
Но все это раньше было. Перее зд в Эктон, увы, последнюю точку ставит – язык деда окончательно становится для Глеба чужим. Дома он редко с матерью по-русски говорит, а с отчимом – понятно, на каком. Делает исключение лишь для Кости, специально английской речи избегающего. Прискорбно мало.
Разговор телефонный с дочерью не слишком вразумительным выходит. На службе не позволяет Дина себе расслабиться, потратить пару минут лишних на беседу с отцом. Хотя и звонки ей домой мало чем отличаются – предпочитает Дина лаконичные, не окрашенные эмоциями, расплывчато-общие ответы на конкретные вопросы, будто и не с близким человеком говорит. А еще раздражают Костю непроизвольные вкрапления расхожих английских слов и выражений: «окей», «файн», «шур», «ай эл трай май бест» и далее в таком же духе. Договариваются: в воскресенье ближайшее приедет с Глебом в Нью-Йорк и пойдут все вместе на кладбище.
Истекают свободные минуты – в одиннадцать первый пациент сегодняшний возвращается дядя Том. Гонит его Костя в туалет – пусть пописает. Снимок четче, когда пузырь пустой. Укладывает дядю Тома на лежанку, приближает камеру. Одна «голова» камеры над дядей Томом зависает, вторая – под лежанкой. Скорость перемещения камеры – десять сантиметров в минуту. Костя программу контура тела задает. У человека, скажем, большой живот или еще какое отклонение от нормы. У дяди Тома видимых отклонений нет. Лежит, бедолага, уставившись в потолок уныло.
На «головы» Костя предохранительные щитки надевает. Положено. Чтобы прямого контакта не возникло с пациентом: «голова» раздавить может. Запросто. Раньше Костя вольности допускал, не ставил щитки. И не один он – другие технологи тоже. Но после того случая щитки – первым делом. Сколько жить будет, запомнит объявший его беспредельный ужас, когда, начав процедуру, отходит к своему столу почитать «Нью-Йорк таймс» и слышит вдруг: «Камера давит…» Щитки на «головах» отсутствуют. Себя не помня, подлетает Костя к аппарату и врубает кнопку экстренной остановки. Программа сбой дала, еще секунда – и тяжеленная «голова» плющить бы начала лежавшего. У Кости руки трясутся. Старается не подать вида, перепрограммирует и запускает камеру по новой. Какое счастье, что не вышел из комнаты. Закон железный – ни в коем случае не оставлять пациента один на один с машиной. Но ведь раньше иной раз оставлял – процедура двадцатиминутная, на автомате, чего сидеть сложа руки. Бог милует, иначе потеря лайсенса, а то и тюрьма, в зависимости от травм человека.
Теперь – наученный, работает только со щитками.
А вот и Ефим. Его черед под камеру ложиться. «Голова» на то место нацелена, которое нужно докторам видеть. То есть на палец левой ноги. Костя снимает пальцы обеих ног, чтобы сравнить. Три-четыре минуты – готово.
– Ну, что ты там увидел? – Ефим клинообразную бороденку пощипывает, нервничает. Лечить будем или пусть живет?
Пять «бон скен» делает Костя за день сегодняшний. Согласно расписанию. И еще два стресс-теста. Сколько перевидал этих стресс-тестов, а себя не сумел проверить. Чувствовал – надо безотлагательно, да все оттягивал, недосуг было. И лень. А как прихватило сердце, так уж и поздно было проверяться. В среду загремел по «скорой» в госпиталь, в пятницу соперировали. Чуть концы не отдал. Зато теперь с чистыми артериями. Лет на десять, наверное, хватит. А дальше – как судьба распорядится.
День как день, без осложнений. И следа никакого не оставляет. Работу свою Костя наизусть знает, с закрытыми глазами делать может. То-то и неинтересно. А творчество ему противопоказано. Более того, запрещено строго-настрого. Есть служебная инструкция – ей и следуй.
Однажды Даниил, дружок Костин – тот самый, кто про rednecks говорил, редактор огромной, в четыреста страниц, местной рекламной газеты, – пристал: бывали у тебя происшествия? Ну, про щитки рассказал. А еще? А еще… Наркоманы попадаются с плохими, вдоль и поперек исколотыми венами – попробуй найди. Среди них спидоносцы. Обычно Костя без перчаток работает – руки в резине слепыми становятся. Но в этих случаях надевает. Разве это ЧП? – редактор разочарован. Костя думает-думает и пожимает плечами – нет ничего такого. И хорошо, что нет. Один тип, тоже технолог, как-то вкалывает не ту дозу и вину на Костю сваливает. Разбираются, типа этого выгоняют немедленно. Скрыть ошибку в их деле невозможно. Или не ту процедуру пациенту сделаешь. Они ведь похожи, процедуры. С Костей не случалось. Однажды укалывает иглой использованной. В самом начале случилось, когда опыта набирался. Случайно – берет шприц, колет, а в нем жидкости нет. Кому-то уже шприцом этим сделал инъекцию. Переживает жутко. Обходится. В общем, ничего этакого приятелю не смог сообщить.
Общение Костино в госпитале – супервайзер, доктор-радиолог и секретарша. Все. Круг замыкается. (Есть, правда, медсестра Элла из другого отдела, но о ней разговор особый.) Трепаться с ними некогда и не о чем. Словоохотливый супервайзер Бен достает Костю рассказами, какую лазанью намедни ел в итальянском ресторане. Десять минут про гребаную лазанью, удавиться впору. Бен – гей и, естественно, спидоносец. На работе то и дело дремлет. Силенки убавляются заметно. Инъекции делает неумело, будто впервые, Костя его по этой части страхует, подменяет. На Бене – финансовая документация, писанина. Тоже не лучшим образом ведет. Его госпитальное начальство не трогает, да и попробуй тронь – по судам затаскает.
СПИД в Америке не болезнь, а охранная грамота. А в принципе Бен мужик нормальный, к Косте хорошо относится. Если бы не рассказы про лазанью…
В конце дня Костя звонит Маше. Никто не отвечает. Оставляет на ее биппере номер своего телефона. Перезванивает Маша через полчаса. На фирме аврал, что-то там случилось, поэтому отвечает лаконично, отрывисто, будто сугубо деловой разговор ведет, а речь-то о свидании. Выходные заняты, только в следующий вторник. Сегодня, между прочим, четверг.
Опять пустой вечер. Куда себя деть? В кино? Ничего путного не идет. Привык чаще всего бывать один, даже на концертах в «Карнеги» и в «Метрополитен». Маша редко может вырваться – дети, заботы, вкалывает на сверхурочных как проклятая. Вот и ходит один. Поначалу странно, непривычно, потом пообвык. Изредка приятелей берет с собой бессемейных, того же редактора, или Леню с женой, старинного друга московской поры, бывшего строителя, пребывающего в вечной тоске. Кафе в Манхэттене забиты парами: сидят за столиками она-она, он-он. То ли сексменьшинства, вернее, сексбольшинства, то ли одинокие. Ищут друг друга, чтобы время скоротать. Как он с редактором.
Готовит ужин, открывает пиво, любимую свою мексиканскую «Корону». После еды – вовсе не обязательное чтение. Останавливается в раздумье у полок. На одной верхний ряд – девять светло-бежевых томов и один бордовый – русские философы, взял с собой из России. Начала выходить тогда библиотека сочинений тех, о ком имел Костя весьма смутное представление. Чаадаева, Бердяева, правда, читал и раньше, а вот Шпета, Кавелина, Потебню, Соловьева… В последнее время, однако, не может серьезное читать, и классику русскую в том числе. Не трогает. Только «Нью-Йорк таймс» и еженедельники. И книги на английском застревают. Вроде все понятно, почти без словаря обходится, но аромата фразы не чувствует. На сон грядущий изредка стихи, ими и обходится. Образованный человек не читает, а перечитывает. Хороший афоризм. Значит, он образованный. К тому же страстные книгочеи не одиноки в постели. Он – не страстный, следовательно, сие к нему не относится.
Вытаскивает крохотный, на ладони уместится, сборничек Рильке, еще в семьдесят четвертом вышел в Москве. Тоже привез с собой в эмиграцию.
Как бы в ад этот попасть из теперешнего рая…
Откладывает книжицу, лежит, скрестив руки на груди, как покойник. Ловит себя на сравнении и руки вдоль туловища вытягивает. Находит глазами блокнот для записей, на светло-кофейной обложке черным фломастером два слова крупно выведены: «Разрозненные мысли». Лежит блокнот на трюмо прикроватном, заносит в него Костя всякую хрень, что в голову приходит, впрочем, иногда и дельные вроде мыслишки проскальзывают, как золотинки в промываемом песке; последнее время все реже заглядывает в блокнот, а записей новых и вовсе нет. Мозги ржавеют, наверное. Сейчас вдруг желание появляется полистать блокнот с летними еще записями.
Иногда мне кажется, что люди, которые ищут то, о чем долго мечтают, на самом деле боятся это найти. Ну, обретут, а дальше? А так живут со своей красивой легендой и не променяют ее ни на что.
Почему в Нью-Йорке мало красивых женщин? В сабвэе ли, в автобусе ли, на манхэттенских улицах и даже в театрах и концертных залах – смуглолицые, шоколадные, узкоглазые, блинообразные, бледно-белые, безразлично-никакие, не будящие эмоций лица, и если мелькнет вдруг манящий облик, то безобманчиво определяешь – русская.
А ведь какой чертовский намес, кого только и откуда не приманивает и не привечает этот сумасшедший город…
Казалось, в таком конгломерате рас и народностей только и произрастать красавицам. Ничего подобного – все блекло, стерто, невпечатлительно.
Даниил ответ имеет относительно англосаксов, чьи потомки поселились в Америке. По его теории, шутливо-завиральной, во всем виноваты костры инквизиции. В средние века сжигали в Европе еретиков и ведьм; ведьмы были самыми красивыми, их не стало – генофонд красавиц истощился: посмотри, говорит Даниил, на тех же немок, британок, скандинавок… А француженки, итальянки, испанки? – пытаюсь парировать я. Окей, много ли ты видел среди них красавиц? – заводится. Чтобы и лицо, и волосы, и фигура… Немного, соглашаюсь.
А с прочими, не англосаксами, как же? И сам себе отвечаю: эмигрируют со всего остального света в кажущуюся благословенной Америку не сливки общества, не аристократы – трудовой люд в поисках куска хлеба, с надеждой, что детям уготована лучшая участь. Скажем, женщины-латиносы, их в Нью-Йорке уйма, может, миллион, может, два: низкорослые, с откляченными задницами, напоминающие лошадей Пржевальского; моют они посуду в ресторанах, убирают, стирают, ухаживают за чужими детьми, работают продавцами за семь долларов в час, словом, делают то, от чего отказываются американки. Откуда среди них красавицам взяться…
Но, может, мне красивые просто не попадаются, ибо ездят не в метро и автобусах, а в машинах? Или мне ближе славянский тип красоты: светлые волосы, голубые глаза и так далее, потому я не в состоянии оценить в полной мере пригожесть лунообразных китаянок и вьетнамок с глазами-щелками или губастых, задастых гаитянок? Изредка ведь попадаются удивительно гармоничные создания природы… В сабвэе напротив меня садится молодая, плотного сложения женщина в короткой черной юбке, черных, сливающихся с цветом кожи колготках и туфлях на высоких каблуках. Ярко накрашена, алая помада на выразительных губах и тени вокруг оливковых глаз подчеркивают благородный абрис лица в обрамлении длинных тонких волос, редких у представительниц черной расы; в лице женщины уверенность, достоинство, осознание своей особой прелести; на ней тонкая голубая кофточка с короткими рукавами, верхние пуговицы расстегнуты, слегка виден вырез груди с медальоном на золотой цепочке. Я не в состоянии не смотреть на нее, помимо воли устремляюсь взглядом в темную расселину между неплотно сдвинутыми круглыми коленями, женщина ловит его, чуть хмурит брови, однако не делает ни малейшей попытки сдвинуть колени, лишь окатывает меня холодом оливок. Я в упор, с замиранием, забыв приличия, беззастенчиво расстреливаю ее глазами: ты прекрасна, сексапильна, в тебе дремлющая страсть, от которой твои мужчины, наверное, сходят с ума, как бы я хотел быть в их числе… Женщина все чувствует, но не электризуется, как польщенная вниманием русская, не посылает ответных флюидов – все такая же гордая неприступность и легкое презрение. Ее остановка, женщина выходит из вагона, зная, что я гляжу ей вслед, мигом охватывая, фиксируя весь ее облик, от гребенок до ног, как сказал поэт, оборачивается и, мне кажется, с удовольствием показывает поднятый средний палец – на интернациональном языке жестов означает: накось, выкуси…
Такие красавицы, впрочем, – исключение на фоне массы невзрачных, неприметных, бесформенных женщин, молодых и не очень, чаще всего неприбранных, неухоженных, словно специально одетых так, чтобы скрыть женственность…
И лишь русские, чьи глаза сулят и не отталкивают, как равнодушно-безучастные взгляды американок, обученных не смотреть на мужчин, лишь русские, приехавшие оттуда, где грязный, начиненный парами бензина и заводскими выбросами воздух и далеко не у всех есть нормально оплачиваемая работа, где каждый пятый недоедает и где женщина – существо подневольное, целиком зависящее от мужских прихотей, где для того, чтобы следить за собой по общепринятым стандартам, не хватает средней зарплаты, – именно русские поражают в Нью-Йорке статью, здоровой, гладкой, без веснушек, рябинок и угрей кожей, модной стрижкой, со вкусом подобранной косметикой, одеждой…
Как такое возможно? Никто не знает.
Удивительно, как в спортивной игре полно и до конца может выражаться душа нации. Футбол – интернационален, в нем частицы души всех нас, населяющих земной шар. А футбол американский? Атлеты в шлемах и масках наподобие тех, что у хоккейных вратарей, в защитных доспехах, демонстрируют бицепсы – единственно открытую часть тела, у каждого радиосвязь с тренером, носятся по полю за овальным мячом с единственной целью – приземлить его за линией защиты соперника.
Я – поклонник и обожатель футбола – поначалу оставался равнодушен к названному американцами этим словом действу, не имеющему к моей любимой игре никакого отношения. Но, приглядевшись, узнав правила, понаблюдав десяток-другой матчей, проникся к новой для меня игре глубоким уважением, считаю одной из самых умных и интеллектуальных в мире. Мощь, сила, скорость, сноровка, а еще ум, тонкая тактика, расчет, прежде всего, восхищающая зрителей филигранная точность ключевого игрока – квотербэка, бросающего мяч своим нападающим на сорок-пятьдесят метров…
Однако только ли это делает игру эту выразительницей души нации? Нет, разумеется. Тогда что же? Пронести мяч на половину соперника и приземлить за чертой – «тачдаун» – можно, лишь испытав удары и захваты, падения и столкновения, преодолев бешеное сопротивление, через «кучу малу», боль и ушибы, ссадины и травмы. Только так достигается успех, и никак иначе! Легких путей к этому нет и быть не может. Нарушил правила – изволь вернуться на исходную позицию, начинай атаку сначала.
В этой игре нет ничьих. Или все, или ничего. Разве не то же в американской повседневности?!
Именно поэтому игра эта столь близка и понятна стране, в которой в часы трансляции решающих матчей жизнь замирает и сосредоточена лишь вокруг мельтешащих на экранах телевизоров игроков в шлемах и масках.
Бессмысленная писанина, микстура от одиночества, лишь бы время скоротать. Все равно без толку, ни во что путное не выльется, ни в роман, ни в повесть. Чтобы ему, Косте Ситникову, в недавнем прошлом киносценаристу, начать писать в Америке, что-то должно случиться, выбить из колеи привычной, иначе – скучно. Друг его Даня, редактор газеты, с ним не согласен, этот пишет прозу постоянно, каждодневно, есть настроение, нет – все равно за компьютер садится. Костя так не может, не умеет. Однако ничего в его жизни не случается, он уже и не ждет, позавчера до омерзения на вчера похоже, вчера – на сегодня и так далее, без просвета. Вот и пробавляется разрозненными мыслями, лучше сказать, мыслишками.
Завтра – пятница, благословенный, обожаемый всеми день, потому что последний на рабочей неделе. Сколь нежно, трепетно, с придыханием желают здесь друг другу, а прежде всего самим себе, хорошего отдыха… Have a nice weekends! Музыка божественная, скрипка и флейта, Моцарт и Мендельсон, можно плавным речитативом, можно ликующим воскликом, можно так и этак, любым образом – все едино прекрасно звучит. Завтра – отдых, не надо ехать на работу, видеть физиономии сослуживцев (по Косте, большинство из них – жизнерадостные роботы, обитающие в сумеречном мире умеренной приемлемости). Одно из самых больших Костиных удивлений и недоумений в Америке: оказывается, работу здесь редко любят, а чаще относятся к ней равнодушно, а то и ненавидят. Часто задумывается над собственным парадоксально-категорическим выводом, спорить пытается с собой, отбрасывать крайнее суждение – не получается. Работа суть деньги. Иного здесь в расчет не берут. Работа – самовыражение, творческая, полнокровная, в радость и удовольствие от самого процесса – наверное, есть, существует, но это – потом, как производное от главного. Чек в конверте – мерило творчества, радости, удовольствия. Большинство работу приемлет, и не более. Да и как любить то, что в любой момент можешь потерять? Не по своей вине, не потому, что неумеха и плохо ремеслом владеешь – таких вообще не держат, за исключением госслужбы, где кретинов пруд пруди. Работа – не женщина, которую любят, даже если теряют, и может, еще сильнее, когда теряют. Лишь единицам в работе кайф ловить удается и не думать о получке – кстати, при таком подходе не маленькой. Форменные счастливцы, предмет Костиной зависти. Вокруг него таковых нет. Впрочем, есть, вернее, был. Слава Гуревич.
Да, Слава. Смуглокожий, с нееврейским стреловидным разрезом светло-карих глаз и ямочками на щеках и подбородке. Ямочки улыбаются, оттого приобретает лицо доверчиво-доброе выражение, почти нежное. Нет его больше двух лет. Жил замечательно, и не в годах тут дело, а в наполнении их.
…Кладбище недалеко от Сан-Матео. Красиво именуется, загадочно – Cypress Lawn, «Кипарисовая лужайка». Кипарисов не видно, может, где-то дальше, не у входа. Кругом простор немыслимый, небо раскрывается бескрайним, до горизонта, голубым парашютом. Палит калифорнийское солнце не по-мартовски, градусов двадцать пять по Цельсию. (Терпеть не может Костя эти фаренгейты, а также дюймы, инчи, акры, паунды. Весь мир давно отказался, а американцы держатся. Упрямства ради или менять лень и дорого?) Озерца с утками, водопады, растительность обильная – лучше не сыскать места для последнего приюта. Но все слишком, чересчур – слишком ухожено, вылизано, чересчур красиво, не о бренности сущего хочется думать, а о радостях и утехах бытия. Кладбище должно незатейливым быть, строгим, сумрачным, не отвлекать от печали и скорби.
Аллейками углубляется Костя в территорию, оказывается не просто среди могил, а монументальных творений – семейных склепов, часовен, усыпальниц строго классических форм, с колоннами и портиками из серого гранита и мрамора. «Кипарисовая аллея», как объясняют ему, включает в себя католический, баптистский, еврейский участки, и все огромно, впечатляюще, рассчитано на вечность. Денег не жалеют на покойников. Есть и просто могилы со скромными ритуальными знаками, но поржавелые оградки, погнувшиеся кресты и треснувшие плиты с древнееврейской вязью, слава богу, отсутствуют. Отсутствуют и самодеятельные надписи на граните и мраморе, вроде гениальной по безысходной своей простоте, однажды увиденной им на еврейском кладбище в подмосковной Малаховке, где Полины родители похоронены: «Боря, вот и все…» Или философски-напутственного обращения усопшего мужа к жене: «И я был жив, как ты, и ты умрешь, как я…» Надписи лапидарны, в одном выдержаны тоне, без всяких там художеств и выкрутасов: beloved father, beloved mother, beloved wife, beloved husband… (Любимым отцу, матери, жене, мужу…) Синие наклейки на многих надгробиях со словами: endowed care. Означают, что сохранность могилы на долгие годы обеспечивается хозяевами кладбища, разумеется, за деньги, и немалые.
Кто-то из пришедших на прощание со Славой осведомленность выказывает: похоронены тут многие знаменитости, в том числе Херст и Савелий Крамаров. Шалопутный актер русский с косиной на один глаз, которую взял да исправил в Америке, мигом потеряв своеобразие, чести удостоился стать знаменитостью и покоиться неподалеку от газетного короля.
Крайне редко попадает Костя на американские кладбища – знакомыми в Нью-Йорке обзавелся немногими, друзей и того меньше, так что провожать в последний путь, по сути, некого. Последней была жена. Тот день помнит так, будто вчера случилось. И всякий раз испытывает на кладбищах чувство чужести, именно здесь всего острее, – не его это страна и никогда не станет его. В земле этой не лежат родственники, товарищи, не к кому приходить, не с кем беседовать шепотом, отсутствует ниточка, от мертвых к живым ведущая, и в этом главная причина кроется.
Слава в полном и ясном сознании уходил, во всяком случае, еще за сутки до кончины был таким. Распорядился не устраивать никаких особых проводов, ни по еврейскому, ни по христианскому обычаю, хотя имел право и на то, и на другое: отец его был иудей, мать русская. Местом встречи друзей для прощания с собой избрал не бросающуюся в глаза часовню, недалеко от входа на кладбище. Сам выбрал, попросив привезти в «Кипарисовую аллею» вскоре после того, как, собрав самых близких, жену, сына и брата, объявил им, что прекращает борьбу за жизнь и начинает готовиться куходу.
А боролся он яростно несколько лет, с того момента самого, как проморгавшие болезнь доктора самое страшное признали – канцер.
С невесть откуда взявшегося покашливания началось. Рентген ничего настораживающего не показывал. Кашель усиливался. Верный себе, неистово и самоотреченно работавший в молодой амбициозной нефтяной фирме, не желал Слава тратить золотое время на эскулапов, в чьих талантах давно, как и большинство американцев, разуверился. Без приборов они ровным счетом ничего не стоят, а тесты говорили: все окей. Лишь под давлением жены пошел-таки к пульмонологу и словно бы между прочим обронил: мать его умерла от рака легких, отец – от другого вида опухоли. Тогда наконец взялись за него всерьез. Но – поздно.
И, однако, сотворил Слава чудо. После операции и «химии» сам подыскивал себе лекарства для усиления иммунной системы.
Доктора разводили руками, Слава уговаривал, настаивал, требовал – и добивался. Сражался с болезнью он с отчаянной решимостью и верой в продление отпущенных ему лет. Сколько еще суждено прожить, не знал, однако жертвовать не хотел ни дня, ни часа. В осмысленных его действиях не было и намека на обреченность. Последние полтора года поддерживало необыкновенное, им самим придуманное средство. Работал Слава по четыре часа в день, на фирме на него молились. Знал и умел он, бывший бакинский ученый, доктор наук, то, что американцы не знали и не умели. Но вдруг лекарство перестало действовать. Замены не нашлось…
Все это узнавал Костя по телефону. Звонил он Гуревичу из Нью-Йорка пару раз в неделю, или тот звонил сам. На вопрос о самочувствии отвечал Слава исчерпывающе-коротко: «Боремся», подразумевая неуместность расспросов. В последнее время не мог Слава долго говорить, нутряно кашлял, задыхался, было слышно, как сплевывает мокроту, давалось ему каждое слово с трудом. Лишь однажды изменил своему правилу не касаться темы этой.
– Помнишь, Костя, у Сельвинского… «Смерть легка, как тополевый пух. А то, чего мы страшно так боимся, то есть не смерть, а ожиданье смерти». Кажется, я правильно процитировал. Впрочем, за абсолютную точность не ручаюсь, но смысл такой. Как тополевый пух… – повторил и зашелся кашлем.
Познакомились они на Ислочи, в писательском Доме творчества. Когда это было?.. Кажется, в восемьдесят восьмом, в сентябре. В последние годы нередко бывал Костя в Белоруссии. Нравились места здешние, небогатые, затерянные – не глухомань, но все ж. И потому путевку купил именно в этот Дом творчества. Союз кинематографистов помог, у него с Литфондом хорошие отношения установились. Заканчивал Костя рассказы для сборника, первого и, как оказалось, единственного, имелся договор с издательством, сроки поджимали, вот и приехал поработать. Слава с женой позже появились. Увиделись в столовой, с первого общения понравились друг другу и совместные прогулки в окрестностях начали. Слава любил в писательских домах бывать, любым санаториям их предпочитал, а путевку достать в непрестижную Ислочь, вдали от моря и крымско-кавказских прелестей, для него, известного в Баку ученого, не составило особого труда. Словом, провели вместе две последние недели, потом Костя в Москву уехал, а Слава остался.
Гуревич отменным ходоком оказался и уматывал долгоногого Костю, хотя тот помоложе был. Гуляя в лесу, видели следы домчавшихся сюда чернобыльских ветров: огромные, с голову младенца, грибы, иссохшую листву берез и осин, а в огородах обочь леса метровый укроп и буйно растущую картофельную ботву. Слава с собой счетчик Гейгера привез – знал, куда едет, ежедневные замеры, однако, удивительную картину давали: количество микрорентген было в норме. Откуда же метровый укроп?
– Очень мало знаем мы о радиации, а то, что знаем, не вполне объяснимо, – размышлял Слава. – Скажем, пожилые люди в отличие от детей порой к этой гадости невосприимчивы.
Не предполагали тогда, насколько прав был Слава: уже в Нью-Йорке вычитал Костя в русской газете про крестьянку, дожившую в чернобыльской зоне до 124 лет.
А пока регулярно ходили в близкий Раков за молдавским «Каберне», целебные свойства, говорят, имевшим. Вино по этой причине в больших количествах завезли, несмотря на охватившую страну антиалкогольную истерию.
Вспомнилось все это у входа в часовню, где вот-вот панихида начнется. Не успел проститься со Славой, опоздал на три дня. Специально приурочил поездку в Сан-Франциско – и вот… Сердцем чувствовал – надо спешить, и не успел. Всего-то три дня.
А народ все прибывает, человек сто уже, не меньше. Никого Костя не знает, кроме Славиной жены. Решил не докучать разговорами. Люди кучкуются, объединяются в группки по принципу знакомств, некоторые курят, говорят вполголоса, что моменту приличествует. Американцы отдельно, семеро мужчин и две женщины. Не смешиваются с остальными, разговоры непринужденно ведут, пересмеиваются, будто на «парти», а не на панихиде. Что-то все-таки такое в них, что пониманию русскому недоступно. Переходит Костя от одной группки к другой, в разговоры вслушивается. За редким исключением, Славу знали они, как Костя уловил, последние двенадцать лет, ровно столько, сколько он в Америке, а многие и того меньше. Он же хранит то в себе, чего не знают Славины друзья и не могут знать, хочет поделиться, но не представляется возможности. Не будет же вмешиваться бесцеремонно в беседу незнакомых людей. А представься возможность, расскажет, например, об их дискуссиях на Ислочи относительно эмиграции, которой тогда полстраны бредило, несмотря на обещания горбачевские социализм построить с человеческим лицом и прочие заманчивые, маячившие на горизонте перемены. Слава был категорически против отъезда. Ни в коем случае, никогда. «Большинство работает, чтобы жить, я живу, чтобы работать. Поверь, Костя, не слова это, это моя суть. Разве смогу реализоваться в Америке? Язык, возраст, ну и прочее». Костя соглашался: уезжать нельзя. Ну что, например, делать в Штатах такому, как он? Русский язык для него не только средство общения, это государство его, религия. И как один его коллега на вопрос ответил, хочет ли эмигрировать: «Зачем? Мне и тут плохо».
И вот в начале октября девяностого звонит Слава. Неожиданно. «Я в Москве, давай увидимся…» Встречаются у памятника Пушкину. Слава объявляет, что приехал в американское посольство. Эмигрирует с женой и сыном. Выглядит озабоченным, неулыбчивым, ямочки на щеках дивные пропали или незаметнее стали. Говорит о бакинских событиях, убийствах, крови, насилии, попустительстве армии.
– Сегодня армян режут, завтра за нас возьмутся. Как в том анекдоте с точностью до наоборот. Мне стыдно за мой город, не представлял, что массовое озверение возможно…
Улавливает Костя обрывок разговора рядом стоящих. Тоже о Славе, притом то, чего он не знает. Почему-то Слава никогда не рассказывал. «Фамилия мамы Иванова была. Да, Представьте себе. Слава пришел получать паспорт и заявил: беру фамилию отца и национальность – еврей. Офицер-паспортист своим ушам не поверил, пытался Славу переубедить: «Ты сам не понимаешь, как тебе будет нелегко жить. А Иванов, да еще русский – совсем другое дело». Слава все понимал и тем не менее сознательно стал евреем». Вот, оказывается, как оно было. Русскому понять еврейские проблемы нелегко, надо в чужой шкуре побыть. Сколько раз Костя с женой обсуждал тему эту, не во всем соглашался с Полиной, но в главном сходился: антисемитизм еще и тем страшен, что рождает в евреях комплексы, ощущение ущербности… Со Славой, слава богу, такого не произошло.
Открытый гроб с телом того, кто еще несколько дней назад был живым, дышащим, чувствующим боль, страдающим, тоскующим, прощающимся и всяким другим Славой Гуревичем, в глубине часовни стоит, за рядами скамеек. Рядом – маленькая трибуна. Выступающие мимо гроба проходят, задерживаются на секунду-другую – и на трибуну, она происходящему церемониальный оттенок придает. Единственно, кто не с трибуны говорит, а из прохода в первом ряду, – младший Славин брат. Не похож на него совершенно, с линиями рта, жестко очерченными, и глазами, странно скользящими мимо собеседника. Открывает прощание и потом объявляет берущих слово. Говорит Славин брат умно, проникновенно; Костя, помимо воли, по привычке, всегда мысленно услышанное редактирующий, замечающий неточность, наигранность, фальшь, не может ни к чему придраться. Особенно проняло, когда брат Славы произносит долгую фразу молитвенную: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европы, а также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я один со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». Не уверен Костя, что все люди вокруг вспомнят, откуда доносится фраза-молитва, а он хорошо знает ее по роману известному.
На трибуне коллеги Славины, друзья, знакомые сменяются, каждый добавляет свою крупицу воспоминаний. Со всей Калифорнии съехались, удивительно, день-то будничный, рабочий. Слава их всех объединял, видать, стержнем был, к нему тянулись. И, может, не случайно прощание с редким жизнелюбцем не уныло, слезно, душераздирающе. Улавливает кто-то: «Мы все стали сегодня лучше, чище, светлее, и такими нас сделал Слава».
Слово американцам, коллегам по последней работе Гуревича. Слава рассказывал во время телефонного общения, какие это замечательные ребята, относятся потрясающе к нему: он болел уже, мог в офисе максимум полдня находиться и не всю рабочую неделю, а они ему полную зарплату платили, да еще повышали. С трудом верилось – уж очень не вяжется со здешней соковыжимальной системой. «Мы звали его Слав, он был старше и мудрее нас и умел делать то, чего не могли мы. Он заряжал нас оптимизмом и энергией. На вопрос «как дела?» он всегда отвечал – «грейт!» и вскидывал правую руку. Он и в самом деле чувствовал себя замечательно, работа доставляла ему не просто удовольствие, а наслаждение…»
Худющий, с острым выпирающим кадыком американец говорит, вице-президент компании. Соответствует сказанное им облику Славиному. Говорит что-то там о технологии, о том, что без Славы не смогли бы они внедрить и половину идей, что уход Славы – огромная потеря для фирмы. Так или примерно так говорят, наверное, почти о каждом во время прощания, но американец убеждает искренностью своей и болью по поводу случившегося: Слава – уникум, без него дела у фирмы и впрямь могут разладиться.
Костя братом Славиным предупрежден: ему, гостю из Нью-Йорка, тоже дадут сказать. Но когда свое имя слышит, пульс частить начинает, так бывает, когда выпьет или нервничает. Идет к трибуне неспешной походкой, как и другие, на мгновение застывает у гроба. Это Слава – и не Слава, болезнь тронуть, изжелтить лицо не успела, но пропали ямочки, кожа на изможденных щеках и скулах натянулась гладко, словно на барабане. Слава чужим кажется, мало на себя похожим.
Делает Костя паузу и неожиданно для себя совсем не так начинает, как хотел, заранее продумывал.
– Опоздал я… – с напряжением выталкивает из себя, и очевидно становится: не надо умничать, а просто вспомнить, о чем чаще всего с живым говорил, будто Слава рядом и говорит Костя не на похоронах его, а во время застолья, и не траурную речь, а тост, пусть не веселый, не шутливый, а серьезный, но тост о здравствующем. Поволокло, и остановиться не может. Как уж выбирается Костя из словесной мышеловки c его-то неуклюжим английским, и сам не знает, но чувствует – слушают с особенным вниманием, сопереживанием. В сущности, об обыденном: о непредставимой жажде, страсти работы, целиком Славу поглощавшей, делавшей его счастливым, – ведь мало кто сказать о себе может: иду на службу, как на праздник, – и вдвойне счастливым, ибо такое состояние души присутствовало и в отторгающей подобные эмоции Америке; говорит о многажды слышанном от Славы, что прожил он замечательную жизнь и часто самому себе завидовал, сколько же совершить удалось. В общем, что хотел, то выразил, к Косте потом, на поминках, подходят, руку жмут, за «замечательное выступление» благодарят. Немного не по себе – не на собрании же держал речь и не витийствовал похвал ради, сказал, что чувствовал. А Славы-то нет…