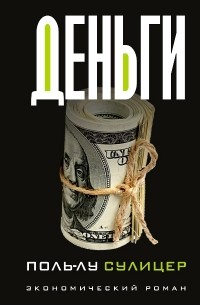Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
© Editions du Rocher, 2010
© Перевод. Издание на русском языке. Оформление. ООО «Попурри», 2019
Посвящается моему отцу, сыновьям Джеймс-Роберту и Жак-Эдуарду,
дочерям Оливии и Джой,
внучке Анне-Терезе,
а также Аннабель
Делать деньги –
это тоже искусство,
страсть, не связанная с предметом,
постоянный поиск недосягаемого…
Это ироничный и сдержанно-отчаянный танец перед лицом Времени.
Часть первая. Безудержное радостное возбуждение…
Полагаю, что история эта началась двадцать третьего ноября примерно в одиннадцать тридцать утра в моем лондонском доме на Олд-Квин-стрит, прилегающей к Сент-Джеймсскому парку. Почему бы и нет? Именно в тот день все и произошло. Быть может, не ровно в одиннадцать тридцать, а с одиннадцати тридцати и продолжалось в течение следующих пяти или шести часов.
Двадцать третьего ноября 1969 года около одиннадцати тридцати утра ко мне заявился полицейский из Скотланд-Ярда и уселся напротив. Все еще помню рисунок твидового пиджака, который был на нем в тот день. Лет сорока, с лицом рыжего шотландца и густой вьющейся шевелюрой, разделенной слева прямым пробором и зачесанной на правую сторону в стиле Огилви или Уоттса. Он пристально смотрит на грузчиков.
– Вы выезжаете?
– Скорее выезжает мебель. У меня забирают все, что куплено в кредит. Не успел рассчитаться.
Телефонный звонок. Снимаю трубку, и это снова банк: они получили второй чек и считают такую ситуацию просто недопустимой. Они интересуются, что я намерен делать, когда смогу приехать к ним, желательно чем скорее, тем лучше, и знаю ли я вообще, что такое протест векселя в неплатеже? «Приехать к вам как можно скорее?.. Когда?.. Через час». Кладу трубку и снова чувствую на себе задумчивый взгляд карих глаз полицейского. Он, разумеется, все слышал и догадался, кто мне звонит и по какой причине, но делал вид, что это его не касается.
– Вот что я предлагаю, – говорит он. – Хорошо бы вспомнить шаг за шагом, чем вы занимались той ночью. Разумеется, вы не обязаны этого делать. Но так мы сэкономим время и вы быстрее освободитесь.
Встаю, чувствуя тяжесть в ногах.
– Ладно, давайте начнем.
Грузчики хорошо потрудились, но все еще таскают мебель: они начали с третьего этажа, который успели полностью освободить, перешли на второй, очистив и его. Теперь они взялись за первый и выносят оттуда буквально все, даже рисунок, выполненный пером и тушью, с изображенным на нем домом в Сен-Тропе.
– Вам сколько лет?
– Двадцать один. Двадцать один год два месяца и две недели.
– Как давно вы арендуете этот дом?
– Два с половиной месяца.
– Ваша позавчерашняя вечеринка – первая в таком роде?
Я смотрю на рисунок, проплывающий мимо меня в руках грузчика.
Мы на лестничном пролете между первым и вторым этажом. Поднимаемся наверх. Оглядываюсь назад, чтобы в последний раз взглянуть на рисунок, но рабочий уже на улице у грузовика с мебелью.
– Не первая, но уж точно последняя.
– Вы что-то отмечали?
Я оборачиваюсь и смотрю на него в упор:
– Мое разорение.
Мы по-прежнему на лестнице, ведущей на второй этаж.
– Я находился внизу, в гостиной, – продолжаю я. – Видел, как она поднималась по лестнице. Как раз в этом месте она обернулась, взглянула на меня, махнула рукой и пошла дальше по ступенькам вверх.
– Ничего странного в выражении лица?
– Нет.
– Людей было много?
– Приглашенных – около пятидесяти человек. Пришло втрое больше. Настоящий дурдом.
– В котором часу это произошло?
– Где-то около трех ночи.
Мы уже на лестничной площадке второго этажа. Стоим. Я снова обращаюсь к нему:
– После того как она поднялась наверх, прошло минут тридцать или сорок. Все это время я оставался внизу. Хотел подняться к ней, однако пробиться сквозь толпу гостей было не так просто: все окликали меня, хотели поболтать и не отпускали.
– Но в конце концов вы поднялись наверх…
Мы на лестнице, ведущей на третий этаж.
– Да, поднялся.
Внезапная вспышка в памяти: все та же лестница (сейчас без ковровой дорожки она кажется голой) предстает заполненной возбужденной толпой, ордой, кучей людишек, цепляющихся за меня на ступеньках и кричащих вслед:
«С разорением, Франц!» Это длится какую-то секунду, быть может, меньше. Сразу же после этого лестница снова становится такой, какая она есть на самом деле: безмолвно тихой и звеняще пустой.
– Откуда вы знали, что она на третьем этаже в этой части дома?
– Только у нее и у меня был ключ от спальни, которую я запер перед вечеринкой.
– Вы поссорились?
– Да нет, разве что самую малость.
– Знали ли вы, что она принимает наркотики?
Площадка третьего этажа.
– Знал.
Мы проходим через холл и приближаемся к открытой двери спальни, которая была заперта в ту ночь. Вторая вспышка в памяти, и на сей раз к внезапно появившейся картинке добавляется звук: я переношусь на тридцать два часа назад и вижу себя перед этой же дверью, тщетно пытающимся ее отворить.
– А вы сами? Я о наркотиках.
– Нет, нет, никогда.
Я стою на пороге и никак не решаюсь переступить его. Просто не могу, чувствую, как скручивает живот и к горлу подступает ком.
– Открыть дверь я не смог, она заперла ее изнутри и оставила ключ в замке.
– Вы постучали в дверь?
– Постучал, но все эти идиоты с лестницы тут же тоже принялись стучать, полагая, что это игра и…
– И всего лишь ссора влюбленных, – добавляет полицейский с невозмутимым выражением лица.
Надо признаться, я заранее продумал каждое свое слово, но совсем другое дело – сказать нужные слова.
– Они подняли вокруг меня такой тарарам, что, даже если бы она кричала изнутри, я бы не услышал.
– И тогда вы решили пробраться в спальню с другой стороны.
С меня градом катится пот. Дурное самочувствие усиливается с каждой секундой.
– Я вышел во двор и влез в ванную комнату через оконную фрамугу.
Видя, что я застыл на месте, полицейский мягко отстраняет меня рукой и переступает порог. Он проходит через спальню, поворачивает направо, чтобы попасть в ванную, затем исчезает из вида. До меня доносится его голос:
– Та самая фрамуга?
– Другой нет.
Прислоняюсь лбом к дверной коробке и буквально обливаюсь потом. Снова голос полицейского:
– Зачем вам понадобилась эта спешная акробатика? Ведь вы могли сломать себе шею. Может, ей просто хотелось побыть одной, подуться какое-то время. Она намекала вам на самоубийство?
– Нет.
Слышу, как он открывает фрамугу, взбирается к приоткрытой щели в окне, затем спускается вниз.
– Но ведь вы понимали, что она может попытаться наложить на себя руки, учитывая ее взвинченное состояние из-за вашей ссоры? Плюс наркотик и наверняка выпитый алкоголь.
– Понимал.
Он раздвигает двери встроенных шкафов.
– Однако вам понадобилось почти сорок минут, прежде чем вы начали беспокоиться о ней?
Будто подстегнутый этим несправедливым упреком и всем, что скрывалось за ним, а также из-за вновь обострившегося чувства вины, которое никуда не исчезало, я делаю несколько шагов, все еще отделяющих меня от ванной, и вхожу туда. И снова, уже третья, вспышка в памяти, подобная багряному зареву; на сей раз к картинке и звукам добавляются запахи. Это удушливый запах разбрызганной повсюду крови. Она на стенах, ванне, мраморной раковине и даже матовом стекле фрамуги. Видимо, перед тем, как повеситься, она в припадке безумия резала бритвой руки, лодыжки, живот, грудь.
Я еле успеваю добежать до туалета, прежде чем меня стошнило.
Часа два спустя, примерно в половине первого, я стою у входа в банк на Чарльз-II-стрит. Это отсюда вчера и все утро сегодня звонили клерки юридического отдела. Я вхожу в вестибюль, но в самый последний момент разворачиваюсь и направляюсь к выходу. Когда я пересекаю Сент-Джеймсскую площадь, вновь моросит холодный дождь, который сопровождает меня на всем пути по Пэлл-Мэлл и в Грин-парке. Он прекращается на какое-то время на площади Гайд-Парк-Корнер, но вновь нагоняет меня, когда я выхожу на станции метро «Найтсбридж», чтобы взглянуть на план города. Я не ошибся, это прямо по Бромптон-роуд, затем еще около трех миль по Олд-Бромптон-роуд.
Несмотря на усталость и дождь, который льет как из ведра, ходьба пошла мне на пользу. Тошнота прошла. Более того, в эти минуты на меня нахлынула какая-то необъяснимая и одновременно необычайно сильная волна; еще миг назад я был на пределе сил, раздавлен, побежден и вдруг чувствую себя нырнувшим в воду пловцом, который, оттолкнувшись от дна, всплывает на поверхность с непонятно откуда взявшейся дикой силой. Это глубоко внутри меня, некая ярость, даже буйное веселье, непреодолимое чувство собственной неуязвимости. Ничего общего с моим возрастом, с двадцать одним годом двумя месяцами и двумя неделями, это нечто более мощное и постоянное. Это новое, родившееся во мне ощущение не покидает меня весь день, оно будет возвращаться спустя время, в последующие месяцы и годы. А сейчас даже моя походка становится другой: несмотря на дождь и сорок часов без сна, я будто парю в воздухе, двигаясь своим танцующим шагом, и даже дышится мне легче обычного.
Я танцую, и мой танец в полной мере соответствует моей фамилии.
Я пришел на Бромптонское кладбище чуть раньше трех часов. Ее семья, сбившаяся в плотную группу под черными зонтами, уже на месте. Я не осмеливаюсь подойти к ним и прячусь как могу под каким-то навесом на столбиках склепа. Я весь промок и продрог до костей. Мое убежище примерно в ста метрах от могилы, и мне хорошо видно, как привозят гроб и опускают его в яму. После этого начинается неторопливая церемония прощания. Проходит около двадцати минут, прежде чем толпа родственников и друзей расходится. Я жду, когда опустеет аллея, чтобы наконец подойти к месту захоронения.
Я стою у могилы не более двух-трех минут. По-прежнему льет дождь. На душе скверно и больно, но неожиданно вновь накатывает волна ярости, почти упоения, которая посетила меня какое-то время назад на Олд-Бромптон-роуд, и еще много раз потом я буду испытывать это ощущение.
В нескольких метрах впереди меня пожилой мужчина выходит за ворота кладбища и собирается сесть за руль «воксхолла». Подхожу к нему:
– Я живу в районе Сент-Джеймсского парка. Вы не могли бы меня подбросить?
Вначале он отрицательно качает головой, но затем переводит взгляд на только что покинутое кладбище. После этого он пристально смотрит на меня, оценивая мой столь промокший вид, что он не заметил бы и слез на лице.
– Кто-то из вашей семьи?
– Знакомая девушка.
– Сколько ей было?
– Девятнадцать. Ей исполнилось бы девятнадцать лет через три недели.
Он кивает головой.
– У меня здесь жена.
Он принимает решение и открывает дверь автомобиля.
– Вы сказали «Сент-Джеймсский парк»?
Он высаживает меня у часовни гвардейцев, и, хотя за время пути нами не было произнесено ни слова, на прощание мы обмениваемся рукопожатием, словно нас связало тайное взаимопонимание. Дом на Олд-Квин-стрит пуст, с пола гостиных убрали ковровое покрытие, и сейчас здесь стоит необычайно мрачный гул. На вощеном дубовом паркете белеет конверт. Его просунули через специальную щель в выкрашенной в кроваво-красный цвет двери. В нем записка из нескольких слов на немецком языке, из которых следует, что меня ждут в ресторане отеля Dorchester с поручением от Мартина Яла и моего дяди Джанкарло. Фамилия пригласившего меня человека Морф.
– Я Альфред Морф, приехал из Цюриха.
Он чуть выше меня, что ничуть не странно, учитывая мой рост, который никак не назовешь гигантским; у него острый подбородок, слегка раскосые глаза, выпирающие скулы и щеки, запавшие так глубоко, что он мог бы посоревноваться со скелетом. Он окидывает меня с ног до головы оценивающим взглядом. Да, я действительно совершенно мокрый: чтобы добраться до отеля Dorchester на Парк-Лейн, я второй раз за день пешком пересек Сент-Джеймсский парк и Грин-парк; теперь, когда я буду проходить мимо Букингемского дворца, гвардейцы точно не спустят с меня глаз.
– Вы промокли, – говорит Морф, поджав губы.
– Так вы, ко всему, еще и наблюдательны? Это пот.
Под ошеломленным взглядом официанта опускаюсь в кресло. Вскоре вокруг меня образуется мокрое пятно, а от моей одежды поднимается пар, как от быка, которого только что загнали в хлев. С улыбкой поворачиваюсь к официанту:
– Не обращайте внимания, любезный: другие тоже на подходе, я обогнал их еще в Ирландии. Принесите-ка мне шампанского, и поживей!
Смотрю на Морфа. Чтобы невзлюбить этого типа, много не надо. И я уже начинаю испытывать к нему неприязнь.
– Я, – обращается он ко мне, – уполномоченный представитель банка Мартина Яла со штаб-квартирами в Цюрихе и Женеве. Ваш дядя – один из наших главных клиентов. Он поручил мне урегулировать ваши проблемы.
– Мой дядя – мошенник.
Мокрое пятно у моих ног увеличивается, расплывается и вот-вот, как прилив, охватит туфли «Шарль Журдан» на ногах зрелой дамы в норковом манто. Я любезно улыбаюсь ей, хотя она буквально испепеляет меня взглядом. Морф продолжает:
– Президент нашего банка господин Мартин Ял…
Я все еще улыбаюсь даме:
– Еще один мошенник, и похлеще, чем первый. И это далеко не самое плохое, что о нем можно сказать…
– Какой стыд, – возмущается дама в норковом манто.
Я одобрительно поддерживаю ее:
– И я так считаю!
– …Господин Мартин Ял во имя старой дружбы с вашим отцом готов еще раз, последний, прийти вам на помощь. В соответствии с волей вашего отца около трех месяцев назад, в ваш двадцать первый день рождения, вы получили сумму в сто три тысячи фунтов стерлингов – остаток его состояния. У вас…
– И шесть пенсов. Сто три тысячи и шесть пенсов.
В эту минуту я так сильно дрожу от холода, что едва не роняю фужер с шампанским. Делаю несколько глотков. Меня снова подташнивает. Одновременно во мне глухими толчками закипает ярость. Я обращаюсь к повернувшейся ко мне спиной даме в норке:
– Этот господин и мой дядя обокрали меня. Милая леди, я бедный сирота, у которого отняли все…
– …За два с половиной месяца вы растранжирили эти деньги, у вас нет даже шиллинга. Более того, проведенное нами расследование показало, что вы наделали кучу долгов на сумму около четырнадцати тысяч фунтов стерлингов.
– И шесть пенсов.
– Мне поручено рассчитаться с вашими кредиторами, если их долговые требования имеют юридическую силу. Я также должен вручить вам десять тысяч фунтов стерлингов, при условии что вы покинете Европу в течение шести часов. И мне приказано лично сопровождать вас вплоть до посадки на самолет.
Внезапно я уже не в Лондоне с его дождливым и холодным ноябрьским вечером и не в ресторане отеля Dorchester с видом на газоны Гайд-парка. Я в Сен-Тропе, в нашем доме в поместье «Капилла», и это август. Пляж Пампелон почти пуст, за исключением трех совершенно обнаженных девушек, которые смеются, поглядывая на моего отца. А он, сидя на корточках рядом со мной, озабочен не столько видом обнаженных девушек, сколько тем, как завести двигатель моего красного «феррари» мощностью в пол-лошадиной силы и длиной в полтора метра. Мне восемь лет, и я сижу в этом детском автомобиле. Чуть дрожащий от зноя воздух наполнен слегка маслянистым и одновременно пьянящим запахом земляничника и ладанника, и мне хочется кричать от счастья.
Ставлю бокал на стол. Я все еще дрожу от холода.
– А если откажусь?
– Тогда придется отвечать за чеки без покрытия. За те, что вы выписали ювелиру в пассаже «Берлингтон-Аркейд» и антиквару с Кенсингтон-Мэлл. Банк согласился подождать до завтрашнего утра. Завтра после десяти часов они подадут в суд.
Перевожу взгляд на спину дамы в норке:
– И вдобавок ко всему они хотят отправить меня в тюрьму. Что вы скажете об этом?
– Прекратите, молодой человек! – вмешивается в разговор шестидесятилетний спутник дамы.
– У вас нет выбора, – говорит Морф.
– А выбрать место ссылки я имею право?
– Главное, чтобы вы покинули Европу в течение шести часов начиная с этой минуты. Куда вы хотели бы отправиться?
Ресторан понемногу заполняется людьми. Взгляды посетителей скользят по мне и мокрому пятну на ковре. Я все больше и больше ощущаю себя промокшей собакой, и мне кажется, что от меня исходит запах псины. Бездомной псины. Мой взгляд останавливается на лежащем на соседнем столике рекламном буклете. Меня поражает название и фотография на нем. И будто выбрал Аляску или Патагонию, я отвечаю Альфреду Морфу:
– В Момбасу, в Кению.
Я почти уверен, что Кения расположена в Африке. Во всяком случае, еще недавно она там находилась, вероятно, по другую сторону Сахары, где после последнего оазиса следует свернуть налево, или что-то в таком роде. И это, собственно, все, что мне о ней известно. Что касается Момбасы, то, как бы смешно ни было, название это я уже где-то встречал, возможно на киноафише, но не более того. Проявив вкрадчивую медлительность казначея, Морф незаметно исчезает. Я опорожнил бокал с шампанским и еще больше дрожу от холода и внутреннего озноба. «Я не доберусь до Кении живым. Умру по дороге, упав с верблюда, забытый караваном, который скроется за гребнем дюны». Ясно вижу, как удаляется вереница верблюдов: видимо, шампанское оказывает пагубное влияние на мой пустой желудок.
Возвращается Морф:
– Рейс авиакомпании British Airways из Лондона в Найроби, в Кению. Отправление через три с половиной часа. В аэропорту Найроби гарантирована пересадка на Момбасу. Я забронировал место, билет мы выкупим в аэропорту. Поехали, нас ждет такси.
Он рассчитывается с официантом за выпитое мною шампанское и минеральную воду, к которой я не прикоснулся, и вот он уже у выхода, тогда как я еще не сдвинулся с места. У двери, чувствуя, что я не следую за ним, он останавливается и, не поворачиваясь, ждет меня. Ладно, теперь все ясно: я ненавижу этого типа.
Едва такси двигается с места, чтобы направиться в Хитроу, как Морф меняет решение:
– Вы не можете путешествовать в таком виде: вас просто не пустят в самолет.
Короче говоря, его не беспокоит, что в своем костюме из чесаной шерсти, сшитом на заказ, я сегодня рискую заработать воспаление легких, а в Африке – приступ удушья. Нет, он опасается, что мой вид может не понравиться сотрудникам British Airways и по этой причине они могут отказать мне в своих услугах. Не обращая на меня никакого внимания, он приказывает таксисту ехать на Оксфорд-стрит-уэст и остановиться у станции метро «Бонд-стрит». Двадцать минут спустя мы выходим из Michael Barrie и Lilley & Skinner. На мне новая обувь и одежда, вплоть до нижнего белья, причем мы подобрали все самое легкое из того, что у них было.
– Альфред, как я вам нравлюсь? Ну скажите же, Альфред, что я нравлюсь вам.
Он даже не смотрит в мою сторону. Мне действительно хочется набить ему морду. Быть может, от этого мне стало бы теплее. Мы снова в такси, которое мчит нас мимо Мраморной арки к Кенсингтону в направлении аэропорта Хитроу. Время на часах около шести, на сияющий под дождем Лондон уже ложатся сумерки. Я покидаю этот город не по своей воле, так и не поняв, что произошло и что происходит. Чувствуя неожиданный прилив угнетающего отчаяния, я откидываю голову на спинку сиденья, закрываю глаза и засовываю руки в карманы пиджака. Я понимаю, что еще немного – и моя жизнь полностью изменится, что завтра я проснусь совсем не таким, каким был два дня назад, и это, разумеется, не просто изменение пути, а полная перемена жизни и новые возможности. То ли от выпитого шампанского, то ли от усталости – не знаю, что хуже, – у меня начинает кружиться голова.
– Распишитесь вот здесь, пожалуйста.
Он пододвигает ко мне темно-рыжий кожаный атташе-кейс с разложенными на нем бумагами.
– Расписка, – объясняет он. – Я должен передать вам десять тысяч фунтов и отчитаться перед господином Мартином Ялом. И еще одна формальность: сегодня, двадцать третьего ноября 1969 года, истекает срок завещательного отказа, установленного вашим отцом. С этого дня…
Я почти не слушаю его, чувствуя ужасную слабость из-за подступающей тошноты, и безуспешно пытаюсь открыть глаза.
– …вы можете рассчитывать только на себя. Вот ваш чек на десять тысяч фунтов стерлингов. Будьте осторожны – он на предъявителя. Подпишите здесь и здесь.
В какие-то невероятно малые доли секунды я осознаю, что попал в жестокую ловушку, которая только что захлопнулась за мной. Возможно, я придумал это уже потом, когда узнал всю правду, но факт тот, что я подписал все его бумаги.
Аэропорт.
– Может, вы хотите перекусить или выпить чего-нибудь горячего?
Теперь он беспокоится обо мне. При этом он по-прежнему холоден. На нем костюм из магазина готовой одежды, но хуже всего то, что у него вид завсегдатая этих магазинов; он носит грубые кожаные туфли из разряда тех, которые покупают потому, что они долго служат; у него часы на цепочке, и время от времени он поглядывает на них, будто не доверяет настенным часам в зале.
Я не ответил на его вопрос. Он ведет меня к стойке компании British Airways, где покупает билет Лондон – Момбаса, расплачиваясь картой Diners Club. «Да, в одну сторону». Вместо того чтобы передать билет мне, Морф оставляет его у себя, и мы направляемся к входу в чистую зону аэропорта, предназначенную только для авиапассажиров. Я пользуюсь этим моментом, чтобы улизнуть. Растворяюсь в толпе, прячась за группой пакистанцев в чалмах. Захожу в цветочный магазин и обращаюсь к молодой продавщице, у которой голубые глупые глаза, плоская грудь и большие красные руки прачки:
– Вы можете доставить цветы? Белые розы, это для девушки.
Пишу имя и адрес, и это вызывает у нее настоящий шок.
– Бромптонское кладбище?
– Тридцать четвертый ряд западного сектора. Ее похоронили сегодня утром.
– Карточку с подписью не надо, просто белые розы.
Я подписываю чек и отдаю его продавщице.
– Десять тысяч фунтов. Я хочу сказать: белых роз на десять тысяч фунтов. И вот еще шесть пенсов. У вас будет достаточно времени убедиться в том, что чек настоящий. Много времени. Что касается монеты, то она тоже настоящая, гарантирую вам это.
Когда я получаю от нее долгожданную квитанцию, появляется Альфред Морф, это растерянное и запыхавшееся ничтожество. Я говорю ему:
– Пойдемте же, мой любезный Альфред.
Он ошеломлен, дважды поворачивается в сторону цветочного магазина, возможно, задаваясь вопросом, что можно сделать и есть ли у него хоть малейшая возможность как-то вернуть деньги. Теперь уже я должен тащить его за руку. Мы подходим к стойке регистрации. Здесь он предъявляет наши билеты: мой – в Кению и свой – до Цюриха. Мы входим бок о бок в чистую зону. Я направляюсь к книжному киоску. Мне повезло: я нахожу замечательную книгу Карен Бликсен «Из Африки», которую еще не успел прочесть. Беру книгу и прошу Морфа:
– Не могли бы вы, любезнейший, заплатить за книжку. Вы ведь знаете: я на мели. У меня больше нет даже шести пенсов.
Спустя час с небольшим мой самолет, пробивая толщу облаков, взмывает в небо. Я начинаю читать. Я чувствую голод, сильный зверский голод, которого не испытывал уже несколько дней, и это похоже на возрождение, на то, что после месяцев и даже лет безумия все начинает налаживаться. Уже восемь часов и десять или двадцать минут. Я открываю книгу и несколько раз перечитываю первые строки:
«Я владела фермой в Африке, у подножия нагорья Нгонг. Поблизости, всего в двадцати пяти милях к северу, проходил экватор. Сама ферма располагалась на высоте двух тысяч метров над уровнем моря…»
Выходит, что африканская ферма Карен Бликсен находилась в Кении. В Кении. Я тщетно ищу карту, о покупке которой должен был позаботиться в аэропорту. Где, черт возьми, находится Момбаса по отношению к Нгонгу, о котором говорится в книге?
Самолет уже набрал высоту, шум моторов заметно убавился, а расположенные впереди ряды кресел вернулись в горизонтальное положение. В голове – бесцветная пустота, немного похожая на слабый свет, заполнивший этот безликий салон. Мои мысли возвращаются к цветам. К белым розам, к горе белых роз. Килиманджаро? Не знаю.
Рука скользит в пустой карман.
И это как удар по самолюбию. Никогда, больше никогда. Ничто не заставит меня смириться с этим. Моя рука будто сжимает что-то твердое и горячее, нежное и в то же время ужасное.
Я чувствую, как губы шепотом зовут его.
Я слышу, как мой голос произносит это заветное слово:
«Деньги!»
Я никогда не имел дело с деньгами. Меня это не беспокоило. Но только что все изменилось. Бесповоротно.
Я ношу яркую и звучную фамилию, которая ассоциируется с танцем. Во всяком случае, так я это воспринимаю, и в моем представлении этот танец всегда сопровождается почти варварской музыкой, по меньшей мере дикой, яростной, очень веселой и танцевальной. И поспешный отъезд в тот ноябрьский вечер из Лондона к африканскому солнцу стал для меня началом этого танца.
Моя фамилия Симбалли.
В аэропорту Момбасы я сажусь в желтый автобус, до предела набитый пассажирами с багажом, прибывшими рейсом East African Airlines.
Мы выезжаем на основательно разбитую дорогу, всю в выбоинах и с изъеденным дождями асфальтом. Я ожидал изнурительной жары, но стоит комфортная погода. Правда, липкий воздух наполнен самыми разнообразными и далеко не всегда приятными запахами. Разумеется, люди вокруг меня в большинстве своем черные, но среди пассажиров я вижу и лица посветлее, как мне кажется, индийцев, еще двух арабов и европейца. Пытаюсь поймать взгляд последнего и, когда мы встречаемся глазами, посылаю ему приветливую улыбку. Но он отворачивается, не обращая на меня никакого внимания. Автобус останавливается, и все выходят. «Конечная», – объявляет водитель, обращаясь только ко мне, замечая, что я не пошевеливаюсь. Я тоже выхожу.
Почти полдень, двадцать четвертое ноября. Ожидая пересадки на рейс в Найроби, я не покидал здания аэропорта и почти все время читал книгу Карен Бликсен. Словом, Кении я не знал. Ничего особенного я не увидел и по дороге в Момбасу, разве что окруженную земельными участками деревню с круглыми хижинами под белой штукатуркой и коническими соломенными крышами, с одетыми в основном в розовое женщинами, юбки которых напоминали мне банные полотенца, с синими тюрбанами на голове, с плоскими, но не уродливыми носами и, к моему великому сожалению, не с обнаженной грудью.
Выйдя из желтого автобуса, я впервые лицом к лицу встретился со страной, в которую сам напросился. Передо мной заполненная магазинами и лавками оживленная главная улица, которая, как я вскоре узнаю, называется Килиндини-роуд. Это главная артерия старого города. Все, что у меня есть, – на мне; нет ни чемодана, ни, что особенно неприятно, зубной щетки.
«Пришло время делать деньги». Дикое упоение, посетившее меня на Олд-Бромптон-роуд, никуда не пропало. Чем быстрее и выше мы поднимаемся, тем ниже падаем. Интересно, кто это сказал? Быть может, я. В моем случае подъем должен быть стремительным: я на мели. Кстати, какая валюта в Кении? Жемчуг? Карманные зеркальца или дорожные чеки? Мое внимание привлекает вывеска отделения банка Barclays. Подхожу и внимательно изучаю обменный курс. Теперь я знаю, что деньги придется делать в кенийских шиллингах; один шиллинг оценивается в семьдесят французских сантимов, за английский фунт дают восемнадцать с половиной шиллингов, за доллар – семь шиллингов.
Однако все это на хлеб не намажешь.
Я слоняюсь по Килиндини-роуд, внимательно вглядываясь во внутренний полумрак лавок, завешанных индийскими коврами, в глаза женщин с блестящими волосами, явно готовых отдать себя за материальное вознаграждение. Наконец я нахожу то, что искал: он примерно моего возраста и роста, может, чуть пониже, и ему, как и мне, еще предстоит проявить себя. Это самое меньшее, что можно о нем сказать.
– Дорогой друг, – обращаюсь я к нему. – Я специально прибыл из Лондона ближайшим рейсом, чтобы дать вам возможность заключить сделку века. Эти прекрасные часы могут стать вашими. Нет, это не сон, это правда, они могут стать вашими в обмен на шестьсот долларов, хотя я отдал за них вдвое больше в магазине «Бушерон» в Париже. Позвоните им прямо сейчас и убедитесь, что я говорю правду.
Он ничего не знает о «Бушероне», это очевидно, и, более того, ему, похоже, наплевать на него. Главное в другом: в глубине его больших влажных глаз прыгают веселые искорки.
– И заметьте, друг мой, среди всех этих магазинов я выбрал именно вас. Любовь с первого взгляда.
Я попал в точку. Широко улыбаюсь ему, он отвечает мне тем же. Начинаю смеяться, он делает то же самое. Еще немного – и можно похлопать друг друга по плечу. Друзья не разлей вода.
– Ну послушайте, – снова начинаю я. – Это в самом деле очень хорошее дельце, такое вряд ли еще подвернется, не упустите свой шанс. И раз вы так настаиваете на покупке, я уступаю их за пятьсот пятьдесят.
Его смех переходит в неудержимый хохот. Он отступает от порога, приглашая меня зайти в лавку: такого веселого клиента, как я, непозволительно держать у входа. Через десять минут он уже в курсе всех подробностей моего положения и отъезда из Лондона: я сыграл на откровенности и будущих товарищеских отношениях.
Он угощает меня чаем с липкими пирожными, политыми сахарной глазурью, а в это время мои часы переходят из рук в руки. Их внимательно осматривают отец, дяди, родные и двоюродные братья, призванные для окончательной экспертизы.
– Сто долларов.
– Четыреста пятьдесят.
Мы снова хохочем и пьем чай. Часы пошли по второму кругу.
– Сто двадцать долларов.
– Четыреста.
– Сто тридцать.
– Триста восемьдесят четыре и семнадцать центов.
Мне действительно весело, и на том спасибо. Однако три четверти часа спустя, вдоволь насмеявшись и выпив шесть чашек чая, мы с Чандрой приходим к соглашению: сто семьдесят пять долларов плюс бритва с тремя новыми лезвиями, из которых лишь одно действительно новое, плюс полотняные белые трусы в стиле индийская армия на купании, плюс зубная щетка, а также карта Кении. Тем временем Чандра, ставший моим другом, почти братом, обнимает меня за плечи, а я на всякий случай слежу, чтобы он случайно не залез в мой карман (я ошибался: при более близком знакомстве Чандра окажется на удивление совестливым и порядочным человеком). Он советует мне остановиться в отеле Castle, расположенном прямо за двумя огромными бетонными бивнями слонов, символизирующими въезд и выезд с Килиндини-роуд. Это здание в псевдовикторианском стиле с испано-мавританским балконом и турецким туалетом в конце коридора. Комната обходится мне в двенадцать шиллингов (почти два доллара), и после посещения единственного душа, открытого для постояльцев отеля, я ложусь на кровать и разворачиваю карту Кении, чтобы наконец увидеть, что собой представляет эта страна. По правде говоря, не ахти что, по крайней мере на бумаге. В лучшем случае своеобразную воронку, конец которой упирается в Индийский океан. Если стать спиной к океану, то на востоке находится Сомали, на севере – Эфиопия, на западе – Уганда и озеро Виктория, а Танзания – на юго-западе. Я ищу гору Килиманджаро с ее заснеженными вершинами и леопардом. Не нахожу. Обнаруживаю только гору Кения, которая возвышается на пять тысяч двести метров. Неужели Килиманджаро украли?
Наконец случайно нахожу ее в соседней Танзании. По мне, Килиманджаро поменяли местами, для меня она всегда была в Кении.
Я чувствую себя совсем одиноким и оторванным от мира в полном смысле этого слова. Таракан крылышком слегка касается моего лица, когда я лежу на этой сомнительной чистоты постели в номере с шумным вентилятором, издающим астматические вздохи.
Однако приступ хандры длится недолго. Сказывается влияние Олд-Бромптон-роуд и той силы, которую я там обрел. У меня сто семьдесят пять долларов, мне двадцать один год два месяца и две недели. Во всяком случае, у меня есть на что продержаться полтора месяца, даже если в конце концов придется стать похожим на Робинзона Крузо, но не в пятницу, а накануне. Я уверен: что-то должно подвернуться раньше. Не знаю что: я никогда не работал и за всю жизнь не заработал ни сантима, меня выпихивали парижские лицеи, препровождая в провинциальные учебные заведения, потом швейцарские колледжи и закрытые частные школы Великобритании. Франц Симбалли – душа компании и заводила вечеринок в Лондоне и Париже, на швейцарских горнолыжных курортах и в самых модных местах на Лазурном берегу, непутевый гуляка, способный за два с половиной месяца промотать сто семнадцать тысяч фунтов стерлингов, – не был большим умником, и он этого не отрицал.
Но на свет появился или вот-вот появится другой Симбалли. Пришло время делать деньги.
Я даю себе неделю. И действительно, мне потребуется семь дней, чтобы встретиться с Йоахимом.
Йоахим внимательно разглядывает меня с высоты чуть больше метра восьмидесяти пяти своими маленькими слоновыми глазами, которые выглядят как дыры на лице, способном навести страх на племя масаев. Он обращается ко мне:
– Ты думал, мне нужны твои деньги?
Я смеюсь.
– В какой-то мере.
Йоахим хмурится, не понимая, затем, к моему удивлению, краснеет, как девушка. Он отрицательно качает головой.
– Да нет, мне нравятся женщины.
– Мне тоже.
Йоахим португалец. Уже скоро я узнаю, что около пяти лет он провел в Мозамбике, а до того жил в Анголе, где носил военную форму, пока не ушел из армии, а точнее, добавляет он застенчивым шепотом, дезертировал. У него действительно страшная физиономия, которой можно испугаться даже днем, а еще больше ночью, помятый и изогнутый кверху нос в форме полуострова, на рябых щеках – две похожие на шрамы глубокие морщины. Его настоящее имя, по крайней мере под которым он известен в Кении, Йоахим Феррейра да Силва, и далее следует еще четырнадцать или пятнадцать разных имен и фамилий.
– Ты знал футболиста Эйсебио?
– Никогда не слышал.
– Он был лучшим в мире игроком, посильнее Пеле. А о Пеле ты слышал?
– Смутно.
– Эйсебио играл намного лучше, чем Пеле.
– Да ладно.
– Не веришь? Какого черта ты мне не веришь!
Я не вижу причины злить Йоахима по такому поводу. Мы повстречались с португальцем в здании аэропорта, расскажу, как это случилось. То был седьмой день моего пребывания в Момбасе; все предшествующие дни я изучал город пешком. Город – это громко сказано: два эстуария, длинные узкие бухты с выступающими далеко в море мысами, а между ними на несколько метров над водой возвышается полуостров, на котором арабы и персы, охотившиеся за рабами, а затем португальцы построили форты, мечети и храмы. В северо-восточной части находится старая арабская гавань с парусниками – арабскими дау, в южной – забитый грузовыми судами современный порт Килиндини. Именно здесь берет начало железная дорога, снабжающая Найроби и Уганду. С материком Момбасу соединяет платная автодорога. Если отправиться по ней на север, то она приведет к огромному чудному пляжу, вдоль которого выстроились роскошные современные отели. Здесь же можно увидеть особняк Джомо Кениаты. С фасадом этого дома вскоре мне придется познакомиться поближе по весьма печальному поводу.
Это то, что касается общего декора.
Для того чтобы обойти весь город, много времени не надо. Современный порт? Любой арабский или индийский экспедитор знает о нем в сотни раз больше, чем я смогу прочесть. Торговля? Чем? И вдобавок ко всему я абсолютно убежден, что терпеливое восхождение наверх, отнимающее у человека двадцать или тридцать лет жизни, не для меня. Понятно, что пришла пора делать деньги, но понятно и то, что делать их надо быстро. Это, конечно, большие амбиции, но мне плевать.
Более того, у меня в руках появился козырь, даже если я этого еще не понял, и Йоахим раскрывает мне его суть. Впервые я увидел его на террасе отеля Castle. Его лицо безработного убийцы не заметить было просто невозможно. На следующий день я вновь встретился с ним, затем еще дважды сутки спустя, а потом мне довольно часто приходилось видеть его во время скитаний по городу, хотя он со смущением девственницы старался избегать меня. Его застенчивость сильно удивляет меня и даже вводит в заблуждение. Мне кажется, что он добивается меня, и это никак не радует. Еще немного – и я врезал бы ему по морде. Сдерживало меня только природное добродушие и страх, что он не останется в долгу и сотрет меня в порошок.
– Я действительно ходил за вами, – говорит он, переваливаясь с ноги на ногу, словно медведь-шатун. – Но лишь потому, что у меня к вам предложение.
Он стесняется своего вида, хотя за мощной мускулатурой Кинг-Конга скрывается доброе сердце прыщавого школьника: он занимается организацией и проведением сафари.
– Но это не сафари класса люкс. Им занимаются в основном немецкие туристы, иногда шведы или датчане, бывают и англичане, которые торопятся, как в аэропорту: им подавай буйвола за время пересадки между рейсами.
Йоахим говорит по-английски или по меньшей мере пытается говорить. У него ужасный акцент, и слова он подбирает с большим трудом. Мы лучше понимаем друг друга, когда переходим на невообразимую тарабарщину из французских, итальянских и английских слов, приправленных испанскими.
– Сколько ты с них берешь?
– Десять тысяч шиллингов.
Семь тысяч французских франков.
– А я тебе зачем?
Йоахим объясняет, что я молод и весьма привлекателен (это и мое мнение), владею, помимо французского и итальянского, которые здесь нужны примерно так же, как коньки, английским и немецким языками. «Когда я обращаюсь к немецким туристам, – жалуется Йоахим, – они шарахаются от меня. И они меня не понимают». Йоахим предлагает мне две тысячи шиллингов за каждого приведенного мной клиента. Мы сходимся на трех. В знак дружбы мы пьем кока-колу: Йоахим не употребляет алкоголь, поскольку дал обет Фатимской Божьей Матери. Сбитый этим с толку, я вопросительно смотрю на него, но он серьезен, как папа римский. Сам я обычно пью только шампанское, не скажу, что много, но раз его нет, так нет. В моей голове выстраиваются самые невероятные комбинации: предположим, я нахожу два и почему бы не четыре или пять клиентов в неделю, а это уже пятнадцать тысяч шиллингов. Однако для этого потребуется нанять других Йоахимов, поскольку первому уже со всем не управиться, но этих будущих Йоахимов теперь нанимаю я, и с них я буду иметь не по три тысячи, а, скажем, по шесть тысяч шиллингов за клиента. И если у меня будет тридцать клиентов в неделю, то все кенийские джунгли будут заполнены сотнями тысяч, даже миллионами немецких туристов, и я легко смогу достичь шестисот шестидесяти девяти тысяч четырехсот двадцати четырех шиллингов в месяц (и это минимум!), а затем расширить бизнес в соседние страны и даже в Сенегал…
Но уже скоро на смену моим фантастическим планам приходит трезвый расчет. Правда в том, что прибывающие самолетом туристы мечтают о пляжах на побережье Индийского океана, экзотике, Момбасе как стародавнем центре работорговли, Момбасе, в котором побывал некий Стэнли в поисках знаменитого Ливингстона. Они не мечтают о сафари, разве что самую малость. Рынок, как сказали бы экономисты, до смешного узок. Уже через несколько дней я убеждаюсь в этом, когда охочусь за вновь прибывшими туристами, встречая их у трапа самолета и следуя за ними по пятам, когда они бестолково блуждают по улочкам и покупают ужасные сувениры, вырезанные из дерева, и подделки масайского оружия…
И все же.
Размышляя над тем, что мне поведал Йоахим, я начинаю улавливать суть идеи. Действительно, мое преимущество в том, что я белый, могу общаться с туристами на их языке, внушаю доверие, однако не настолько, чтобы продавать им ненужное сафари. А надо ли вообще им что-то продавать?
Я возвращаюсь к своему индийскому другу Чандре, которому продал часы. С тех пор как мы впервые встретились, я несколько раз заходил в его лавку, и мы стали почти друзьями, тем более что он успел продать мои часы с выгодой, о размере которой скромно умалчивает. Его ответы на мои вопросы подтверждают мою изначальную идею.
Наступил момент, чтобы делать деньги?
Ну что ж, я знаю как.
Мой первый клиент – немец из Южной Германии, насколько помню, откуда-то из-под Мюнхена, юрист или врач, во всяком случае, человек свободной профессии. После моих первых слов он пристально смотрит на меня:
– Где вы изучали немецкий язык?
– Моя мать – австрийка.
Нет, сафари его не интересует: он не охотник. Гид и переводчик ему тоже не нужны. «Если мне понадобится женщина, я предпочитаю выбрать ее сам». Я поднимаю руки в знак капитуляции:
– Нет, речь вовсе не об этом. Просто хотел вам кое-что предложить: вы ведь собираетесь менять деньги. Скажем, к примеру, сто долларов. В ближайшем обменном пункте за сто долларов вам дадут семьсот шиллингов – это официальный курс. Я могу дать вам семьсот пятьдесят. Вы выигрываете пятьдесят шиллингов, а это почти тридцать немецких марок. На двухстах долларах – сто шиллингов, или шестьдесят марок. На тысяче долларов – уже пятьсот шиллингов, или триста марок.
У него голубые глаза, я морочу ему голову своей болтовней, и под натиском молодого задора голубые глаза немца становятся добрее и задумчивее, но в них все же читается некоторое сомнение:
– И в чем фокус?
Я смеюсь:
– Никаких фокусов. Семьсот пятьдесят шиллингов за сто долларов, и все. И никаких полицейских.
– Ein moment.
Он направляется в пункт обмена и на очень приличном английском языке справляется о курсе валют. Через некоторое время он возвращается, все еще в некоторой нерешительности.
– И ваши шиллинги, конечно же, настоящие?
– Если хотите, можете проверить в банке.
Он решается и меняет четыреста долларов. Я подзываю стоящего в стороне Чандру, который достает из сумки три тысячи шиллингов не очень новыми купюрами и тщательно пересчитывает их. Я специально настаивал на том, чтобы Чандра подобрал не совсем новые банкноты, полагая, что свежие казначейские билеты могут вызвать подозрение. Разумеется, банкноты настоящие, ибо я вовсе не заинтересован в том, чтобы сотрудники Центрального банка Кении обратили внимание на мои валютные операции.
Мы расстаемся с мюнхенцем, и Чандра, как мы договаривались, выплачивает мне комиссионные – двести шиллингов, или двадцать восемь долларов. На черном рынке доллар покупают не по семь шиллингов, а чуть меньше восьми с половиной. И по этой цене он легко находит покупателя: большая индийская диаспора Момбасы и Найроби готовится завершить свой первый исход, начатый в 1968 году, когда тысячи азиатов, в основном индийцы, вернулись в страну предков в результате мер, предпринятых правительством Кениаты, стремившимся выдавить их с ключевых позиций, которые они занимали в торговле. Для Чандры и его земляков покупка долларов по цене восемь с половиной и даже девять или десять шиллингов была единственным способом реализовать приобретенное имущество и сохранить накопленные средства в преддверии отъезда, который мог произойти раньше предполагаемого срока.
Вот на этой разнице курсов и повышенном спросе на доллары я и решил делать деньги, причем очень быстро.
Мне играло на руку новое явление, которое сами индийцы не до конца осознали: внезапный рост числа туристов из Европы в целом и из Германии в частности. Действовать надо было живо, ибо рано или поздно у меня могли появиться проблемы с кенийскими властями, которым вряд ли понравились бы мои финансовые операции, хотя на тот момент они не были противозаконными.
Чандра расплывается в широкой улыбке: даже за вычетом моей комиссии четыреста долларов обошлись ему в три тысячи двести шиллингов вместо трех тысяч четырехсот. Он готов все повторить и свести меня со своими товарищами. Я предупреждаю его:
– При одном условии: все вы будете иметь дело только со мной.
Он клянется чьей-то жизнью. Надеюсь, не моей.
– И вот еще что, Чандра: об этом деле никому ни слова. Тогда сможешь и дальше покупать у меня доллары по льготной цене, то есть по восемь шиллингов вместо восьми с половиной.
Это значит, что всем, кроме него, я буду продавать доллары по восемь с половиной шиллингов, в то время как мне они будут обходиться по семь с половиной. То есть я буду иметь шиллинг с каждого доллара. Но для этого надо найти других мюнхенцев. Два следующих дня я не покидаю аэропорт. После многих часов, потраченных впустую, мне наконец удается сорвать крупный куш: это тоже немцы, и их трое. Они прилетели с женами, которые считают меня душкой. Я обмениваю им две тысячи двести пятьдесят долларов. Половина долларов куплена все тем же Чандрой, другая перепродана торговцу с Килиндини-роуд. Моя чистая прибыль – тысяча шестьсот восемьдесят семь шиллингов. Двести десять долларов. Около восьмисот девяноста двух французских франков.
Я чертовски доволен собой.
Вот и все! Получилось. Впервые в жизни мною заработаны деньги, и я делаю странное открытие, которое поражает меня и приносит огромную радость: это просто! Удивительно просто! Что-то произошло: у меня появилась идея, и эта идея превратилась в звонкую монету. И тем не менее в этой идее не было ничего необычного, да и прибыль была не столь высокой. Но я уверен, что это только начало, и нисколько не сомневаюсь в этом, причем я далек от того, чтобы представить себе те сотни миллионов, что поджидают меня в конце пути, который я называю и всегда буду называть своим танцем.
В моей возбужденной голове неожиданно возникает нелепая идея. Вернувшись в Момбасу, я покупаю две одинаковые открытки с изображением шакала. Одну я отправляю своему дяде Джанкарло Симбалли в Лугано, на Рива Джокондо Альбертолли; вторую – Его Банкирскому Величеству Мартину Ялу, президенту и председателю правления одноименного частного банка, у которого много достижений (кроме нравственных), в Женеву, на набережную имени генерала Гизана. На открытках одинаковый текст: «Как видите, я не забываю вас». Мальчишеская выходка? Это точно. Во всяком случае, без каких-либо последствий. По крайней мере, я так считал. И продолжал считать, пока в один из дней не получил некое убийственное по содержанию письмо.
Тем временем я нашел клиента для Йоахима, точнее сказать двух, так как это молодая пара из Цюриха. Их зовут Ганс и Эрика. Он работает в почтовой администрации или что-то вроде того, а она – в области электроники, по меньшей мере инженером. Они очаровательны и очень любят друг друга. Йоахима молодые люди предупредили: «Мы в самом деле не хотим никого убивать, давайте просто попутешествуем и посмотрим страну».
Увидев Йоахима, они поначалу опешили от его вида. Теперь же, покоренные добрым нравом большого ручного медведя, они отлично с ним ладят. Из Момбасы мы вчетвером направляемся к северу, в сторону Малинди и Ламу, следуя по побережью, вдоль которого тянулась полоса цветущих коралловых рифов, разрезающих сказочно спокойные и прозрачные лагуны. Ганс и Эрика купаются голышом, вскоре и я следую их примеру. Только Йоахим не желает присутствовать на спектакле в исполнении обнаженной швейцарки и, что-то возмущенно ворча себе под нос, отходит в сторону. Вечером, стоя на коленях возле походной койки, он молится перед статуэткой Фатимской Божьей Матери и просит прощения за нас бесстыжих, открывающих свою наготу.
После Ламу, который находится в ста километрах от эфиопской границы, Йоахим направляет свой старый «ленд-ровер» на запад. Мы возвращаемся назад, сделав крюк во внутреннюю часть страны. Прежде чем отправиться на плато Масаи-Мара, мы разбиваем палатки на берегу Таны. Никаких джунглей, в лучшем случае заросли гигантских папоротников, вереска, бамбука, обвитых лианами. Вокруг сплошная саванна с зонтичными акациями со странной ажурной листвой, реже – баобабы и молочаи. Здесь довольно много разных зверей, и Йоахим то и дело тычет в их сторону своим толстым волосатым пальцем; он был охотником, и даже, рассказывали, очень хорошим охотником, но теперь это занятие ему не по душе, и я вижу, что он доволен нашей поездкой, когда нет надобности убивать животных.
Мы поднимаемся выше и попадаем в Национальный парк Цаво, где нам предстоит провести два дня. Такой Кению я увидел впервые, и от этого вида у меня перехватило дыхание: небо здесь никогда не бывает голубым, оно скорее сияющего белого цвета, по нему непрестанно плывут караваны розовых и золотистых облаков; почва – ржаво-охристая или фиолетовая, местами ярко-красная после дождя, когда распускаются цветы кактусов; невероятно красивы пылающие закаты, чудесны и рассветы, когда в тишине утреннего тумана, точно призраки, появляются стада буйволов. Где бы я потом ни находился, чем бы ни занимался, эти две ночи, которые мы провели в Цаво, навсегда останутся в моей памяти как образ настоящей Кении.
В тот вечер за ужином, поедая подстреленных Йоахимом перепелок и цесарок, мы говорим о Швейцарии. Ганс и Эрика принимают меня тоже за швейцарца, но я разуверяю их:
– По национальности я француз. Родился в Сен-Тропе.
Они с удовольствием рассказывают о том, что прошлым летом побывали в Сен-Тропе, загорали на пляже Пампелон и купались в море голышом.
– Дом, где я родился, находится рядом с этим пляжем. Или находился.
Еще немного – и молодые люди вспомнят дом, на который, быть может, не обратили внимания. Они мило предаются воспоминаниям в надежде найти его образ: «Большое белое здание? Или тот дом с башнями, похожий на замок?» – «Нет, наш стоит ближе к воде. А перед домом каменная стена, во дворе пальмы». Вновь нахлынули воспоминания. Почему в моей памяти так ясно, так отчетливо сохранился этот дом, где я провел лишь раннее детство и куда не возвращался после смерти отца?
– Сколько вам было лет, когда он умер?
– Восемь.
– Симбалли – это итальянская фамилия, не так ли?
– Мой отец родом из Тичино – не из швейцарского кантона, а из того, что по другую сторону границы. Еще несколько сотен метров – и он родился бы швейцарцем.
Йоахим берет гитару и своими толстыми пальцами ласково, даже как-то нежно начинает перебирать струны.
– А когда не стало вашей матери?
– Она умерла от рака, когда мне было одиннадцать. Не где-нибудь, а в Париже, на улице Глясьер.
Само название улицы было бы нелепым, не будь оно трагически точным. Снова в памяти всплывают картинки из прошлого. И это последние месяцы той агонии, того адского круга, той безумной и отвратительной сарабанды в исполнении дяди Джанкарло, действующего, я это знаю, по указке Мартина Яла. Он осаждает постель умирающей, призывая врачей сделать все, чтобы продлить ее жизнь (и страдания тоже), не из любви к ней, а лишь для того, чтобы она протянула еще какое-то время и подписала нужные документы. Разумеется, моя лютая ненависть к дяде и Мартину Ялу возникла не в последние дни. Она появилась как-то неосознанно, пустив ростки в те самые весенние дни 1960 года, а потом зрела все последующие годы. Я до боли ненавижу этих господ и порой не могу понять эту ненависть, толкнувшую меня наотрез отказаться от их услуг, обучения, денег и превратившуюся в болезненную одержимость.
– Его отец был очень богат, – роняет Йоахим скрипучим голосом, указывая на меня подбородком. – Father very rich…
Йоахим улыбается мне, и в его взгляде сквозит поразительная теплота искренней дружбы. Он кивает головой.
– Very rich. А потом все.
Он начинает петь свое любимое фаду A Micas das Violetas. Ганс и Эрика прижимаются друг к другу, а я рассматриваю созвездие Южный Крест.
Каждый турист, будь то немец или кто-то другой, но чаще всего немец, меняет по прибытии около восьмисот долларов. Я зарабатываю около восьмисот шиллингов, или чуть более ста долларов, на одном туристе. Расчет нехитрый и по-детски простой: через две недели после того, как у меня появилось золотое дно, я смог отказаться от услуг Чандры как партнера, предоставляющего денежные средства, поскольку пускаю в оборот собственные шиллинги, полученные от продажи долларов индийским торговцам. Через двенадцать дней – точно помню дату, ибо она знаменует собой конец третьей недели моего пребывания в Момбасе, – я в состоянии четырежды за день собрать по шесть тысяч шиллингов, необходимых для покупки долларов у четырех туристов, прибывающих одним рейсом. Четыреста двадцать долларов чистой прибыли за два часа работы. Не то чтобы каждый день на меня сыпалась манна небесная, но тот день, по правде говоря, должен быть отмечен белым камнем как этап в ходе проведения моих валютных операций.
Одно несомненно: я зарабатываю себе на жизнь. И даже больше. Двадцать второго декабря, за два дня до Рождества, я покидаю отель Castle с его шумным вентилятором, следами раздавленных комаров на стенах, общим душем с устойчивым запахом мочи в конце коридора и переезжаю в отель White Sands, расположенный неподалеку от резиденции Джомо Кениаты. Передо мной чудесный белый пляж и коралловое великолепие Индийского океана. Почти через месяц после моего приезда в Момбасу я начинаю чувствовать себя как дома. Двадцать третьего декабря приходит письмо. На конверте без орфографических ошибок указана моя фамилия с двумя буквами «л» и заглавной «с», и еще: «Момбаса, Кения». Я никогда не узнаю, каким чудом кенийская почта смогла доставить его – быть может, потому, что в этом городе с населением в двести с небольшим тысяч жителей европейцев, особенно не британцев, не так много.
Открывая конверт, я обращаю внимание на то, что письмо было отправлено из Парижа одиннадцать дней назад, двенадцатого декабря, в четырнадцать пятнадцать с почтового отделения на улице Бетховена в шестнадцатом округе. В конверте только лист бумаги без водяных знаков размером 21 × 27 сантиметров. Текст напечатан на машинке:
«В момент прекращения срока действия завещательного отказа вы получили около миллиона французских франков как остаток наследства вашего отца. На самом деле наследство составляло от пятидесяти до шестидесяти миллионов долларов, которые путем обмана были у вас похищены».
Подпись отсутствует.
Рождественскую ночь я провел «на конференции» с сомалийкой. У нее шикарная грудь, а изгибу ее бедер и энергии позавидовал бы Ниагарский водопад. Она нежна, улыбчива, полна добрых намерений, но при этом начисто лишена предприимчивости.
Йоахима это возмутило: он хотел, чтобы я отправился вместе с ним на полуночную мессу. С каждым днем португалец удивляет меня все больше: этот бывший наемник, однажды признавшийся, что сжег несколько деревень в разных местах Мозамбика, Анголы и Конго, не думая при этом про женщин и детей в горящих хижинах, этот бывший душегуб был на редкость ревностным католиком, носил четки в нагрудном кармане рубашки и пел Gloria in Excelsis Deo в хоре с катехуменами из племени кикуйю. Любопытства ради, как-то вечером я решил к нему заглянуть, чтобы посмотреть, где он живет, и ужаснулся: на самом краю африканского гетто (в отличие от европейской, арабской или индийской среды обитания) я увидел жалкую хижину из хвороста и глины, крытую пальмовыми ветками. Из мебели – заправленная кровать, стол, деревянная скамейка и металлический ящик с множеством навесных замков и с надписями, закрашенными черной краской, должно быть, еще армейскими. На стене из высушенного ила – шесть гравюр с изображением базилики Фатимской Божьей Матери, фотография с надписью того самого Эйсебио в футбольной форме и еще несколько пожелтевших от времени снимков, сделанных, судя по тротуарной плитке, в Лиссабоне. На них юный Йоахим, лицо которого уже отмечено печатью уродства, запечатлен в обществе женщины в черном платье.
– Почему ты не вернулся в Португалию?
Он не знает, что ответить. Вероятно, на то было много причин, а значит, однозначного ответа на вопрос быть не может: это и положение дезертира, и страх снова встретиться с семьей, и боязнь вернуться домой более бедным, чем был раньше. Сыграла свою роль и глубоко укоренившаяся привязанность к Африке. К Йоахиму я испытываю чувство дружбы, и мне немного его жаль.
Операции с иностранной валютой развиваются успешнее, чем я ожидал. Во время новогодних каникул в страну буквально хлынул поток туристов из Европы. Они прибывают целыми самолетами, и не только регулярными, но и чартерными рейсами. Туристические компании типа Kuoni нанимают все больше и больше самолетов. Двадцать шестого декабря, через тридцать два дня после моего приезда в Кению, я устанавливаю новый рекорд: семь клиентов за один день и шестьсот девяносто долларов прибыли. Двое туристов соблазняются туром фото-сафари с Йоахимом в качестве гида, и португалец настаивает, чтобы я получил от него комиссионные, что приносит мне более девятисот долларов дохода за день.
Помню, как, вернувшись в свой номер в White Sands, я разложил заработанные купюры на кровати и, опьяненный успехом, недоверчиво смотрю на них завороженным взглядом.
Иду к зеркалу в ванной. Да нет, я в порядке! Возвращаюсь к кровати и с ходу ныряю в выложенные ковром купюры. И это прыжок ангела…
Время делать деньги. «Make money». И они приходят.
В последующие дни общая обстановка не меняется. Как говорится, ситуация на фондовом рынке находится под влиянием зимних отпусков. Около полудня следующего дня после шести обменных операций на общую сумму в двадцать девять тысяч шиллингов, когда у меня заканчиваются кенийские деньги, я вынужден вновь обратиться к Чандре, который с восторженной готовностью приходит на помощь.
Тридцать первого декабря я делаю себе новогодний подарок: белый костюм, туфли, чемодан и прочие вещи. Эти дополнительные расходы не мешают моему капиталу впервые превысить отметку в десять тысяч долларов, что составляет около пятидесяти тысяч французских франков.
Конечно же, я предполагал, что в последующие дни поток туристов, собирающихся возвращаться в свою Баварию, родные Мекленбург и Вюртемберг, спадет. И все же для меня это был тяжелый удар: вместо десяти, а то и двенадцати клиентов в день я сразу опускаюсь до одного или двух. И то, когда нахожу их. Бывало, по три дня подряд мне не удавалось подцепить ни одного. Подумывая было привлечь к делу Чандру, горевшего желанием работать со мной, я вынужден об этом забыть, по крайней мере на некоторое время. Я просто в ярости и, чтобы как-то успокоить нервы, вызываю на «пленарное заседание» сомалийку. Для большей надежности советую привлечь к встрече ее младшую сестру, «лекторские» способности которой моя знакомая оценивала весьма высоко. Они утверждают, что сестренке около тринадцати лет. Хотел бы верить, но, по мне, она выглядит на все восемнадцать. Однако точно то, что у нее действительно талант к таким «заседаниям».
И вот в тот январский день, когда мы втроем весело резвимся под душем, раздается громкий стук в дверь. Я догадываюсь, что так громко стучать своими большими волосатыми кулачищами может только португалец. Я кричу ему:
– Я сейчас, Йоахим!
У меня под рукой полотенце, которое я обертываю вокруг головы, дабы подразнить стыдливого Йоахима. Иду к двери, строя из себя шута перед застывшими по стойке смирно голыми сомалийками, отворяю ее и оказываюсь нос к носу с незнакомым кенийцем. У него стриженные ежиком седые волосы и спрятанные за стеклами очков морщинистые глаза. Я тут же узнаю, что он комиссар полиции, которому поручено меня арестовать.
Он осматривает меня сверху вниз.
– Вы совсем голый.
– Я принимаю душ.
Сомалийки, крадучись на цыпочках, возвращаются в ванную. Доносившийся оттуда звук воды затихает. Полицейский смотрит в сторону ванной, затем переводит взгляд на меня. Тут я вспомнил его. Йоахим рассказал мне об этом человеке. Я отворачиваюсь и, пытаясь сохранить собственное достоинство, надеваю шорты-бермуды.
– За что?
– Что за что?
– За что арестовываете?
– За нарушение валютного законодательства.
По сути, он должен подождать, пока я оденусь, а уже затем уводить. Вместо этого он бесцеремонно проходит в номер, направляется к ванной и несколькими словами на суахили выгоняет оттуда девиц. Сомалийки, как две черные молнии сотрясая воздух своими грудями и бедрами, что будоражит меня, спешно задают стрекача. Полицейский закрывает за ними дверь, и я начинаю догадываться, чего он от меня хочет. Присаживаюсь на стул. Это тот самый человек, о котором мне рассказывал Йоахим, а точнее, от которого он меня предостерегал. Зовут его, скажем, Вамаи. Он плохо выглядит: маленького роста, тощий на вид, у него пепельный цвет лица и пергаментная кожа, белки его черных, как жемчужины, глаз красные, словно залиты кровью.
– Я часто видел вас, мистер Симбалли. Я часто видел вас в Момбасе.
– Уверен, что я вам понравился.
У него полное отсутствие чувства юмора. Он вообще не смеется. Средний доход кенийца составляет от пятнадцати до двадцати долларов в месяц. Мне кажется, что комиссар полиции должен зарабатывать в восемь или десять раз больше. Хорошо. Я готов договориться за сто долларов. Может, даже за сто пятьдесят.
– Вы попали в плохую историю, – продолжает Вамаи. – Очень плохую.
Йоахим предупреждал меня: Вамаи в сговоре с судьей, они заодно. Лучше заплатить им напрямую, чем полагаться на правосудие. Хорошо, я пойду на триста долларов, по сто пятьдесят каждому. Любезно спрашиваю:
– Что же я должен сделать, чтобы выпутаться из этой истории?
– Могу похлопотать за вас, – отвечает Вамаи.
Для себя я решил начать торги с двадцати пяти долларов: пятьдесят на двоих, оптовая цена. Двадцать пять? А почему не двадцать? В этом случае я смогу поднять ставку в переговорах, которые, как полагаю, будут долгими.
– Разумеется, – продолжает Вамаи, – предстоят расходы.
Я отвечаю ему извиняющейся улыбкой человека, который хотел бы, но не может…
– Вы знаете, я очень ограничен в средствах. Даже не знаю, как заплатить за номер…
Он понимающе кивает головой.
– Пять тысяч долларов, мистер Симбалли. Вы ежемесячно будете платить такую сумму, и никаких проблем.
В ответ я посылаю его по матери.
И он арестовывает меня.
До последней секунды я думал, что он блефует, просто пытается меня запугать. Я поверил ему, когда в сопровождении двух полицейских он выводит меня в вестибюль White Sands. Здесь, проходя мимо портье, я не могу сдержаться, чтобы не подурачиться:
– Вот только провожу этих джентльменов и тотчас вернусь.
Я еще больше поверил в серьезность его намерений, когда он заталкивает меня на заднее сиденье «лендровера» и, уже в наручниках, я оказываюсь между двумя сбирами. У меня закрадывается сомнение относительно законности его действий после того, как в полицейском участке он помещает меня в вонючую общую камеру, где находится с полдюжины человек, которые говорят исключительно на суахили и которых приводит в некоторое смятение странное появление в их компании белого человека. (Впрочем, меня тоже.)
Я совсем перестаю ему верить, когда меня сажают в странного вида воронок, который уже пару раз попадался мне на глаза на улицах Момбасы. Это обычный грузовик, на платформе которого установлена железная клеть, открывающаяся только сзади. Вдоль платформы к полу приварен стальной брус, к которому крепятся цепи от железных браслетов на ногах и руках моих и моих спутников. В клети нас около двадцати человек, и мы медленно, будто на прогулке, едем по городу. Хотя для жителей Момбасы наблюдать такое зрелище не впервой, но оно всегда привлекает внимание; они привычно наблюдают за медленно проезжающим мимо воронком с заключенными внутри. Но, думается, им впервые приходится видеть в клетке европейца в идиотских белых бермудах с розовыми и голубыми пальмами.
Разумеется, никогда до этого мне не приходилось сидеть на цепи, да еще и в запертой клетке. Мне невыносимо тяжело, хуже некуда. В какое-то мгновение меня охватывает ужас, безумная ярость зверя, попавшего в капкан. Будь Вамаи передо мной, я, наверное, задушил бы его. Меня мутит, хочется кричать во все горло, биться, чтобы освободиться от цепей. К счастью, это длится недолго и мне удается взять себя в руки. «Взгляни на себя, Симбалли, взгляни на себя со стороны. В кого ты превратился?» Мне удается присесть на край деревянной скамьи. И вот моя голова лежит на коленях, зубы впиваются в руку. Вскоре мне легчает. Я поднимаю голову, когда воронок, резко повернув, выезжает на Килиндини-роуд. Мы едем вдоль улицы с маленькими магазинами и лавками, где я знаю каждого владельца. Мимо проплывает вереница блестящих от пота испуганных лиц с обращенными ко мне бессмысленными взглядами, как у провожающих на платформе железнодорожного вокзала во время отбытия поезда. Мы проезжаем мимо отеля Castle, ныряем под бетонные бивни слонов, и тут я вижу молодую женщину: это европейка с каштановыми волосами, стройная, яркая, с красивыми зелеными глазами, выразительным, чуть насмешливым ртом. Наши взгляды встречаются, фиксируются и уже не могут оторваться друг от друга. Непроизвольно, больше из гордости, я выпрямляюсь, поднимаю в знак приветствия закованные в браслеты руки и улыбаюсь. Не будь цепей, я приветствовал бы ее как боксер, победивший в бою. Пока наш грузовик после короткого замедления хода снова набирает скорость, я пригибаюсь, насколько могу, чтобы не потерять ее из виду, долго не спускаю с нее глаз и замечаю, что она тоже наклоняет голову, чтобы лучше меня видеть. И еще я успеваю рассмотреть ее улыбку. Я не знаю, кто она, и никогда не видел ее раньше. И в ее поведении ничто не говорит о том, что она меня знает. Поворот дороги окончательно разлучает нас, и воронок продолжает свой путь к северу.
И вот суд. Я жду тщательного рассмотрения дела. Думаю об адвокате, консуле, вмешательстве моего ублюдочного дяди или в крайнем случае – и это хуже всего – Его Банкирского Величества Мартина Яла. Все-таки это лучше, чем загреметь на двадцать лет за решетку. Как-то так…
Трехэтажное здание суда имеет внутренний двор, обнесенный галереей в португальском стиле. Наш воронок въезжает во двор. С оковами на ногах нас выталкивают из грузовика, подгоняя пинками под зад всех, кроме меня – настолько я им симпатичен. Я в самом деле начинаю понимать, что ко мне особое внимание: уже вскоре меня отцепляют от других арестантов и в цепях препровождают в маленькую комнату на втором этаже, где за столом сидит толстый и потный, как расплавленная свеча, индиец.
– Вы нарушили валютное законодательство. Это очень серьезный проступок.
Не успел я произнести: «Послушайте» и «Я требую адвоката», как он вручает моим конвоирам бумагу, которую, по-видимому, подписал до начала нашей с ним интересной беседы. Меня подхватывают под мышки и выволакивают на улицу. Так и не успев ничего понять, я снова оказываюсь в клетке, и вскоре после того, как ее заполняют другие заключенные, воронок начинает катиться по дороге на север.
Мы проезжаем мимо роскошных пляжных отелей, среди которых мой White Sands, мимо резиденции Джомо Кениаты. Проехав около тридцати километров в северном направлении, мы добираемся до тюрьмы. Когда мы с Йоахимом и швейцарской парой совершали тур в Малинди и Ламу, у меня была возможность взглянуть на нее со стороны. Никаких неизгладимых впечатлений она не оставила: в туристическом плане ради нее делать крюк не стоит. Теперь моему взору предстает своеобразный лагерь с капитальными барачными постройками, окруженный бамбуковой оградой с натянутой колючей проволокой. Это одноэтажные строения из бетонных блоков с плоской крышей и стенами, которые забыли оштукатурить и уж тем более покрасить. Распространяя удушливое зловоние, из отверстий в стене через решетки с металлической сеткой вытекает поток нечистот.
Сквозь полумрак, который царит в раскаленных от жары бараках, видны обращенные к свету мокрые от пота грязные лица. В какой-то миг я представил себе, что нахожусь взаперти среди этих несчастных, и у меня тут же перехватило дыхание от отвращения и страха. Я облегченно вздыхаю, когда меня уводят в сторону от барака. Мне кажется, что я спасен. Ковыляю по неровной тропе на ногах с кровоточащими следами от железных браслетов: на мне только бермуды, гавайская рубашка и вьетнамки.
Я спотыкаюсь, но мне уже как-то безразлично, куда меня ведут. Это продолжается до той минуты, пока я не замечаю железную решетку.
Она слегка приподнята над землей и заперта на висячий замок. И вот ее открывают специально для меня. В яму спускают лестницу – на деле старый деревянный брус с неровно прибитыми поперечинами.
– Down.
Спускаюсь вниз и вижу шесть человек, которые теснятся в вырытой в земле круглой яме глубиной почти в пять метров и шириной в два. На дне ямы хлюпает отвратное месиво с тошнотворным запахом, происхождение которого не вызывает сомнения. Мои ноги погружаются по щиколотку в нечистоты, я почти плачу от подкатывающей к горлу тошноты, меня трясет, я не раз спотыкаюсь, пока наконец в этом мраке не нахожу себе место и не прижимаюсь спиной к стене. Вверху над моей головой захлопывается решетка, и полицейские уходят. Из-за мрака я поначалу различаю вокруг себя лишь тени. Затем начинаю присматриваться к сокамерникам, которые тоже пристально смотрят на меня. Четверо из них наблюдают за мной с удивлением, даже с легкой ухмылкой; двое других награждают меня презрительным взглядом. Эти последние невероятно огромны, и кажется, что еще немного – и своей головой они достанут до решетки; у них одинаково выбритые выше лба черепа, а оставшиеся волосы скрыты под какой-то красной сеткой, на шее – разноцветные ожерелья; они невозмутимы, величественны, недвижимы в своей звериной гордости. Это масаи.
И они отвратительно воняют.
Остальные четверо – кикуйю. У них страшные рожи грабителей с большой дороги. Потом я узнал, что они простые браконьеры, виновные в отстреле животных на территории заповедника. Но в те минуты они пугают меня гораздо больше, чем масаи: их подозрительные перешептывания на суахили, их дерзкие взгляды и наглые усмешки не дают мне покоя. Я решаю сменить место, снова шлепаю ногами по грязной жиже, и от этого смрадный запах только усиливается. Пересекаю нейтральную территорию в середине ямы и буквально проскальзываю между двумя туземцами. Я чувствую себя полузащитником под охраной игроков второй линии обороны. Масаи не видят меня в упор. Проходит час, сгущаются сумерки, и вместе с ними растет мой страх. От первых укусов я вздрагиваю, от следующих чувствую сильное жжение. В наступившей темноте я обнаруживаю, что на моих стопах и голенях буквально кишат коричневые гусеницы, которые заживо пожирают мою плоть. Я, словно обезумевший, топаю ногами, танцую на месте. Кикуйю умирают со смеху, а масаи не обращают на меня абсолютно никакого внимания, точно я невидимка или нахожусь от них за десять тысяч километров. Так пройдет вся ночь.
Утром нас будят. На завтрак – мясо с синими прожилками и запахом тухлятины. К нему противно прикасаться. Около семи часов утра, судя по солнцу, после долгого ожидания нас всех: и меня, и моих сотоварищей по яме, и десятки других заключенных – сажают в пять или шесть обычных грузовиков. Мы возвращаемся в Момбасу. Однако моя проснувшаяся было надежда увидеть судью, комиссара или бог весть знает кого, чтобы обратиться с просьбой, быстро улетучивается. И вот мы высаживаемся из грузовиков. Раздаются команды, и мне становится ясно, чего от меня хотят: я должен ремонтировать дорогу, заделывать на ней выбоины, и для этого нужно таскать камни, много камней, столько, что можно, мне кажется, построить целый город. И дорога, которую я имею честь ремонтировать, проходит рядом с резиденцией Джомо Кениаты – президента Кении.
Это какой-то дьявольский снобизм.
Ближе к полудню появляется Йоахим. У него обеспокоенный вид, он не решается приблизиться и подает мне какие-то знаки, которые трудно понять. Видимо, это означает, что он заботится обо мне. Мы обедаем прямо на обочине дороги под палящими лучами солнца. Естественно, я уже еле держусь на ногах или почти еле держусь. Меня качает от усталости, уже целые сутки я не держал ничего во рту, не спал, провел ночь в сражении с гадкими гусеницами и в ожидании разбойного нападения со стороны сокамерников. Всякий раз, когда я думаю о предстоящей ночи, которая неизбежно будет похожа на предыдущую, я близок к обмороку.
Где-то около трех часов неподалеку от нас останавливается небольшой «остин». Из него выходит полицейский Вамаи.
– Вы согласны, Симбалли?
Желание ударить его. Даже больше: размозжить ему голову камнями, а потом топтать его труп ногами.
– Но не на пять тысяч.
Он разворачивается, всем своим видом показывая, что возвращается в машину. Чувствую, как подступает ком к горлу. Я должен его окликнуть! Еще миг – и я сделаю это. Но он останавливается, потом возвращается:
– Скажем, три тысячи.
У меня ватные ноги, жжение в спине, кружится голова, в глазах на секунду все темнеет. Нет уж, последнее слово будет не за кенийским полицейским. Не торопясь переношу камень из одной кучи в другую, отхожу назад и любуюсь выполненной работой. Делаю так, чтобы он заметил мою забаву.
– Пятьсот. Больше дать не могу, вы это знаете.
– Две тысячи.
– Полторы.
– Две тысячи.
Уже восемь часов, как мы на этой чертовой дороге, и она, по правде говоря, успела мне опротиветь. Я вспоминаю четырех кикуйю, их наглые ухмылки в помойной яме, их пронзающие меня жгучие взгляды, не говоря уже об остальном, не менее омерзительном. Вспоминаю гусениц и после этого вступаю с ним в последнюю схватку:
– Согласен на две тысячи. Но вы дадите мне расписку.
Для него это удар, и он вопросительно смотрит на меня. Я с достоинством объясняю:
– Расписку, в которой вы подтверждаете, что получили от меня деньги. Это для налогового инспектора.
Он не верит своим ушам и задается вопросом, сумасшедший ли я или просто смеюсь над ним.
– Я никогда этого не сделаю, – наконец отвечает он.
– Тогда тысяча.
Пусть делится с судьей как хочет. Я не стану вмешиваться, обещаю.
Вижу по глазам, что сейчас он уступит, и самое трудное для меня в эту минуту – сдержаться, чтобы не прикончить его лопатой. Он спасает свое достоинство:
– Тысяча двести.
Я опираюсь на лопату. От всего этого хочется заплакать. Я отвечаю:
– Согласен.
– Я сделал все, что мог, – говорит мне Йоахим. – Ты же знаешь, что я на мели. К тому же они меня здесь еле терпят. Я предупредил Чандру. Один из его двоюродных братьев – двоюродный брат зятя дяди двоюродного брата судьи, который вынес тебе приговор. Вообще-то они должны были продержать тебя за решеткой неделю. Ты был приговорен к лишению свободы сроком на неделю.
Уже двадцать минут, как я нахожусь в своем номере в отеле White Sands. Как я и ожидал, номер обыскали сверху донизу. Безуспешно, ибо у меня здесь не было ни шиллинга. Свои деньги я держу в банке, немного – на счете, остальные – в индивидуальном банковском сейфе.
– Чандра похлопотал. Он сделал подарок двоюродному брату, и срок лишения свободы сократили до одного дня, который ты и провел за решеткой.
– И вот я на свободе. Спасибо, Йоахим.
– Это все Чандра.
– Его я тоже отблагодарю.
Меня освободили два часа назад. Перед отъездом я решил узнать, в чем обвинялись мои сокамерники. Кикуйю посадили за браконьерство. Что до масаи, с которыми я чувствовал себя в безопасности, то они обвинялись в убийстве. Парни вырезали индийскую семью, расчленив тела на куски с поразительной жестокостью. У меня действительно есть нюх. Я также узнал, для чего служат ямы: в них сажают осужденных на короткий срок, таких как я, а также совершивших тяжкие преступления для ожидания исполнения наказания, таких как масаи. Странная по своему составу компания. Но я уже далек от всего этого. А как иначе, если надо платить налог в тысячу двести долларов. Его, кстати, я оплатил вечером того же дня. На следующий день я возобновляю то, что называю своей работой в аэропорту. Итог – два клиента. Еще один итог: я понял, что случившееся меня не унизило. Повезло? Нет, это действительно произошло со мной. Случившееся лишь закалило меня, избавило от слабости и показало мне наглую и холодную враждебность, о существовании которой я до этого не подозревал. Спад, что последовал сразу за новогодними праздниками, постепенно прекратился; бизнес возобновился. В январе мой доход за вычетом всех расходов приближается к отметке в десять тысяч долларов. Затем, в феврале, он превышает этот рубеж и вдвое увеличивается в марте, когда моя чистая прибыль составляет двадцать пять тысяч долларов, и это несмотря на то, что я продолжаю платить полицейскому и судье тысячу двести долларов и взял в помощники Чанд-ру – он обходится мне в две тысячи долларов в месяц. Он делит свое время между валютными операциями и своей лавкой, куда я привожу клиентов с условием, что Чандра предоставляет им скидку в двадцать пять процентов на все, что они покупают. Разработанная мной к середине марта система комиссионных отчислений распространяется на все торговые точки, владельцы которых согласны выплачивать мне комиссию, и этих точек становится все больше и больше.
Сильная сторона моей системы в том, что, получая двадцать пять процентов от продажной цены, я также беру двадцать процентов от покупной цены (эту вторую комиссию мне напрямую выплачивает покупатель), и, несмотря на двойное отчисление, турист еще и выигрывает. С моей системой он платит за статуэтку, оружие, бивни слона или носорога, любые украшения на тридцать – сорок процентов меньше, нежели он заплатил бы, если бы совершал свою покупку самостоятельно. Короче говоря, я благодетель.
Доход от дополнительной деятельности: на первых порах от полутора до двух тысяч долларов, затем около пятнадцати тысяч в месяц к концу моего пребывания в Кении.
В конце апреля, во время непродолжительной поездки в Найроби, где с помощью двоюродного брата Чандры создается филиал моего обменного бизнеса (который в скором времени станет таким же прибыльным, как и первый), я покупаю в кредит четыре «мини-мока» – маленьких джипа с открытым верхом, которые производит компания British Leyland. Я намерен организовать их прокат в Момбасе. Йоахим, которого сафари, по-видимому, кормит все меньше, соглашается заняться новым бизнесом. Надо признать, что, кроме оружия и умения пользоваться им, автомеханика – одна из редких областей наряду с литургией, где он кое-что понимал. Три недели спустя успех проката автомобилей доказывает, что я был прав. Я решаю расширить начатый бизнес и заказываю еще четыре автомобиля. В общей сложности в конце моего пребывания в Кении Йоахим будет руководить парком из шестнадцати автомобилей.
Цифра, которую стоит принять во внимание: в мае все виды деятельности, вместе взятые, за вычетом расходов принесли прибыль около шестидесяти тысяч долларов. Я помню, как двадцать первого апреля мой капитал превысил рубеж в сто тысяч долларов. Я нахожусь в Кении без малого пять месяцев.
К тому же я нашел молодую женщину с зелеными глазами, которая улыбнулась мне вслед, как овернец Брассенсу, когда меня в бермудах везли в воронке.
Она говорит, что ей двадцать четыре года и она приехала в Момбасу в начале января, по сути, накануне моего ареста. Ее зовут Сара Кайл, и она работает администратором в отеле White Sands. Что касается ее роста, то мы подходим друг другу при условии, что она не будет носить слишком высокие каблуки. Она тоже говорит по-французски.
– Я училась в Школе гостиничного менеджмента Лозанны.
Когда ее зеленые глаза смотрят на меня, я всегда вижу в них веселые искорки, будто я самый большой чудак, который встретился на ее пути, и она только и ждет, чтобы я рассмешил ее до слез.
– Я такой смешной?
– С вами весело. Вы очень забавный.
Это немного задевает меня. Я говорю:
– Уже неплохо.
– Что вы делали в той клетке?
– Я представил себя канарейкой и решил спрятаться от кошки.
– Судебная ошибка.
– Это точно.
– Впервые вижу судебную ошибку в бермудах.
У нее треугольное лицо, голова слегка откинута назад, острый взгляд полуприщуренных глаз; она оценивающе смотрит на меня, и я чувствую себя неловко, словно пятнадцатилетний мальчишка. Я не знаю, как подкатить к ней, чтобы затащить ее в постель. Она не идет навстречу. Седьмого января, на следующий день после моего освобождения, я пригласил ее на ужин, однако она отказалась. Днем спустя (как мне кажется, случайно) я встречаюсь с ней в коридоре, ведущем в мой номер. Она заходит ко мне, чтобы, по ее словам, убедиться, все ли в порядке в номере. Она проверяет работу душа, ванны, сливного бачка унитаза, розеток и выключателей, кондиционера, смотрит, как закрываются выдвижные ящики и застекленная дверь на балкон. Я говорю:
– Вся проблема в постели. Она очень жесткая.
Она раздевается и голая растягивается на кровати, скрестив стройные ноги и закинув руки за каштановый затылок. Она делает несколько движений бедрами, как бы доказывая, что пружины матраса в полном порядке. Я говорю:
– Это просто потрясающе! Еще утром он был жестким. Вы позволите?
– Прошу вас, – отвечает она.
Я тоже раздеваюсь, и скоро мы уже вдвоем проверяем жесткость матраса. Один час, два часа, и наконец она заявляет:
– Я была уверена, что у нас все самое качественное.
На что я отвечаю:
– Я тоже.
Только за июль я заработал семьдесят восемь тысяч долларов. Мое представительство в Найроби показывает высокую эффективность работы. Но июль – это прежде всего начало золотой поры – насыщенного и короткого периода моей жизни, связанного с золотом.
Я познакомился с Хаяттом в конце апреля во время поездки в Найроби. Та встреча не произвела на меня особого впечатления, и о ней я бы вскорости забыл, если бы две недели спустя тот же Хаятт не появился в Момбасе.
– Как работают джипы?
Это он продал мне автомобили. Мы сидим в баре White Sands, но, желая поговорить со мной с глазу на глаз, он уводит меня на пляж, где, проявляя толстокожую бесчувственность, резвится целый выводок голландцев с красной, как у вареных раков, кожей.
– Я слышал о вас, – говорит Хаятт.
Вопросительно смотрю на него.
– От индийца, который представляет ваши интересы в Найроби, и от его земляков из Момбасы – тех, что прозвали вас Маленьким Шефом.
И он перечисляет их имена. Хаятт говорит, что впечатлен моим быстрым успехом и считает, что мы должны работать вместе. Он как раз ищет партнера.
– Речь идет о золоте.
– Почему я?
– Потому, что эта работа для двоих. Вы сможете вложить деньги в дело.
– А почему не вы?
– Разве кто-то сказал, что я не буду вкладывать деньги? Буду. К тому же индийцы вам доверяют.
Все происходит довольно быстро. Короче говоря, все ждали только меня. Менее чем через две недели после того, как оговорены основные условия сделки, мы с Хаяттом проводим нашу первую операцию. Все относительно просто: поступающее из Южной Африки золото продается индийцам из Калькутты или Бомбея, которые прибывают морем и ждут нас на условной границе территориальных вод. Почему индийцам (иногда их заменяют английскими евреями: настоящее имя Хаятта – не Хаятт, я совершенно случайно узнаю об этом позже)? А потому, что ввоз золота на территорию Индийского Союза если не запрещен, то по крайней мере строго регламентирован, и это притом, что сами индийцы издавна обожают золотые украшения. Если принимать во внимание численность населения Индии, то рынок золота здесь просто огромный.
Детали операции почти классические: золото, разумеется контрабандным путем, прибывает в виде слитков через Родезию, Замбию и Танзанию. В Момбасе его качество вначале проверяет эксперт, признанный всеми сторонами сделки, в нашем случае еврей из Амстердама, имеющий двойное британско-израильское гражданство и курсирующий с этой целью между Тель-Авивом и Найроби. После оценки качества золото переплавляется, чтобы превратиться в опоры мачт, якоря, якорные цепи и даже кнехты. Эксперту выплачивается два процента от суммы сделки, от восьми до десяти процентов – литейщику. Остается осуществить самую щекотливую и, быть может, самую опасную часть операции: в открытом море обменять золото на доллары, поступающие из Бомбея или Калькутты. Явиться к покупателю с грузом желтого металла, с открытой душой и с губами бантиком очень рискованно, особенно среди ночи. Обычно в таких случаях предусматривают сложную систему обмена заложниками, делят банкноты на две части и передают их в два этапа – словом, много разных перипетий, которые абсолютно меня не радуют и приведут к тому, что я не стану задерживаться в этом незаконном и весьма необычном для меня бизнесе. Что касается Хаятта, то он был в своей тарелке. Кажется, что ощущение опасности только улучшает его настроение. А чтобы расслабиться, он литрами поглощает виски. Он всегда готов быть заложником – ответственная роль, на которую я вряд ли согласился бы.
Он будет выполнять эту роль каждый раз и всегда напиваться до такой степени, что от него не будет никакого толку. Даже если бы ему угрожали пушкой, он, возможно, сам засунул бы свою голову в жерло и пел бы маршевую песню британской армии «Долог путь до Типперери». Пять раз мне с большим трудом приходилось буквально вырывать его из объятий временных тюремщиков – настолько он успевал к ним привязаться.
Я провел всего пять операций. Первую – в конце мая, три – в июне, последнюю – в июле. Прибыль от каждой из них – чуть более тридцати пяти процентов. В первый раз я вложил тридцать тысяч долларов. Для пробы. Попробовал. В следующие операции я поставил на карту почти весь свой капитал. Только в последней, июльской, операции прибыль составила около восьмидесяти пяти тысяч долларов при ставке в двести сорок тысяч.
В Кении я уже семь с половиной месяцев.
Через канал, про который мне рассказывает Хаятт между двумя пьянками (сам он пользуется услугами банка, расположенного на острове в территориальных водах Танзании с любопытным и говорящим названием Мафия), я перевожу почти все свои активы в гонконгский банк – Hong Kong and Shangai Bank. Триста сорок пять тысяч долларов. К этому следует добавить то, что я держу при себе что-то вроде карманных денег. Хаятт, которому в порыве наивного тщеславия я как-то называю эту сумму, впечатлен. Я тоже. Удивлена и Сара, хотя не хочет этого признавать. Полагаю, что пришел мой час. Седьмого июля, сообщив Саре, Йоахиму, Чандре, Хаятту и прочим знакомым, агентам и друзьям из Момбасы и Найроби, что на несколько дней уезжаю на Сейшельские острова, чтобы подобрать земельный участок для инвестиций, я и в самом деле пересекаю танзанийскую границу. Быть может, это бесполезные и несколько смешные меры предосторожности с моей стороны, но я хочу, чтобы никто не знал, что я собираюсь делать на самом деле. Я не могу сесть на самолет в Найроби на глазах у менял, работающих на меня в аэропорту Эмбакаси, потому как это слишком бросалось бы в глаза.
Я применяю план, который вынашивал не один день.
На самолет я все-таки сажусь, но в Дар-эс-Саламе. Рейс в Каир, из Каира в Рим, из Рима в Ниццу. Я заплатил за билет наличными и наличными же расплачиваюсь за машину, которую арендую в аэропорту Ниццы. У меня с собой около двадцати пяти тысяч долларов.
Вечером девятого июля я подъезжаю к Сен-Тропе.
Отец мой умер двадцать восьмого августа 1956 года. Я родился девятого сентября 1948 года. Когда его не стало, мне было без малого восемь лет.
Моего отца звали Андреа Симбалли, он родился в Кампионе. Это итальянский город, который находится не в самой Италии, а в крошечном анклаве на швейцарской территории. Я побывал там и открыл для себя тихий городок без богатой истории, где мирно уживаются игровые залы небольшого казино и барочная церковь в честь Санта-Марии деи Гирли. Если подняться по небольшому, в несколько ступеней, крыльцу церкви, то, куда бы ты ни посмотрел, видишь Швейцарию; и еще перед тобой Лугано со своим озером. И все-таки ты в Италии и подчиняешься итальянским законам. Ближайшая швейцарская деревня под названием Биссон находится в трех километрах отсюда, по другую сторону моста-дамбы, которого еще не было, когда родился отец, и который сегодня выдерживает одновременно железнодорожный путь и участок автострады. Родись отец на три километра дальше, все было бы иначе, и ничего или почти ничего не случилось бы. Возможно, он остался бы жив.
Семья отца – небогатая, но финансово обеспеченная – из Флоренции и, как мне кажется, с ломбардскими корнями. В основном это торговцы, один или два учителя, два или три адвоката. Одним словом, обычная семья. Дом в Кампионе купил дед незадолго до Первой мировой войны, чтобы, не выезжая из страны, спрятаться от австрийских пушек и отсидеться в тени швейцарского нейтралитета. В этом доме в 1919 году родился отец. Был он, надо признать, поразительно одаренным человеком: отец получил диплом инженера и ученую степень лиценциата в области права. Он едва успел закончить обучение, как его отправили в Ливию и Триполитанию, где отец получил ранение и попал в плен. В начале 1946 года он возвращается в Италию после почти годичного пребывания в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Оттуда отец привозит идею, на которой, по его мнению, можно сделать состояние. Речь идет о сделках с недвижимостью: покупке, обустройстве и сдаче в аренду земельных участков для размещения мобильных домов и жилых автофургонов, как это организовано на североамериканском континенте. Один недостаток: в то время претворить в жизнь такую идею можно было только в Соединенных Штатах, в меньшей степени – в Канаде. У отца небольшой семейный капитал. Он готов им рискнуть и, соответственно, обращается к итальянским властям за разрешением на вывоз своих средств. Для родившегося в Швейцарии или Германии такая просьба – простая формальность. В Италии или во Франции – странах якобы либеральной демократии – такая заявка, поступившая от неизвестного просителя, вызывает у чиновников лишь усмешку.
В просьбе отказали. То был окончательный отказ.
Я подождал наступления ночи в Сен-Максиме, на другой стороне залива, и только в десять часов сел за руль автомобиля. Не въезжая в Сен-Тропе, сворачиваю вправо к Раматюэлю, затем беру влево и через лабиринт улочек выезжаю на дорогу, ведущую к пляжу Пампелон. Сам себе удивляюсь, с какой легкостью мне удается справиться со всей этой дорожной неразберихой. В последние годы, в промежутке между двумя провальными курсами обучения, я не раз возвращался в Сен-Тропе, но ни разу не заглядывал в «Капиллу». Что-то мешало этому. Вилла была не моя, и у меня не было желания увидеть изменившийся дом моего детства в руках нового хозяина.
В каком-то месте окольной дороги пересекаю мостик через ручей. Сразу за ним – правый поворот и прямая аллея с соснами слева и виноградниками справа. Останавливаю машину у перекрестка. За тринадцать лет здесь много всего построено, хотя, быть может, память обманывает меня, представляя это место более пустынным в прошлом.
Заглушаю мотор и погружаюсь в полную тишину. Стоит тихая, спокойная ночь, напоенная еще более насыщенными ароматами, чем в моих детских воспоминаниях. Первый крутой подъем, за ним тропинка, которую я нахожу без труда, будто бегал по ней еще вчера. В шестистах метрах отсюда море и пляж, значит, дом немного левее, если он все еще там. Низкие заросли душистого земляничника. Тропинка уже не бежит в гору, напротив, она устремляется вниз, к пляжу. Что-то меня беспокоит: если мне снова не изменяет память, отсюда я должен видеть дом и его огни. Даже через ветви олеандровых деревьев. Но я ничего не вижу. Никаких огней, никаких звуков.
Еще двести метров, и внезапно в темноте я ощущаю его присутствие. Я чувствую его, как чувствуют ночью тело рядом лежащей женщины.
Дом безлюден.
Менее чем через неделю после отказа со стороны итальянских властей отец отправляется в Лугано. Там он знакомится с Мартином Ялом – швейцарским банкиром, чуть старше его по возрасту. Банкир приехал в швейцарский кантон Тичино из Цюриха, чтобы открыть представительство частного банка, основанного еще его дедом. У банка две штаб-квартиры: одна – в Цюрихе, вторая – в Женеве. Отец и Мартин Ял понравились друг другу. Вероятно, отец был достаточно убедителен, поскольку Мартин Ял соглашается помочь ему: предлагает найти способ перевести итальянский капитал отца в Швейцарию либо предоставить ему свои финансовые средства. Во всяком случае, они начинают работать вместе. Более того, Мартин Ял становится банкиром, пайщиком, акционером созданной отцом компании, а также ее управляющим и доверенным лицом.
Это холдинговая компания, то есть компания с ограниченной ответственностью, специально созданная для контроля и управления группой других компаний такого же рода деятельности, работающих по всему миру. И Мартин будет официально руководить холдинговой компанией в силу трастового договора (английское слово trust в переводе означает доверие) и таким образом превратится в доверенное лицо. Мартин Ял становится тем единственным человеком, который знает действительного владельца, создателя и руководителя холдинга.
Отцу никак нельзя без этой тайны. Он в определенном смысле обманул итальянские налоговые органы. И это притом, что использованные для создания компании деньги были его собственными и с них он заплатил налоги итальянскому государству. Но ему запретили использовать их по своему усмотрению, он не подчинился, и в этом была его вина. Он мог бы разориться на скачках, обклеить деньгами стены дома в Кампионе, но никак не вывозить их из страны, разве что для создания компании Dupont de Nemours или General Motors. Будь он президентом – председателем правления транснациональной корпорации либо человеком, близким к влиятельным кругам, то, вероятно, смог бы договориться с небожителями.
Отцу нужна эта тайна, и он сжился с ней. Впоследствии, по прошествии ряда лет, он уже не может повернуть вспять. Трудно заявиться в итальянские налоговые органы и сказать: я обманул вас, простите, и давайте забудем. Чем придется за это заплатить? И еще: возможно ли официально перевести на родину созданную мною империю? Тем более что в то время отец переехал во Францию, где женился на молодой австрийской еврейке, с которой познакомился у Яла. Она приносит ему официальное состояние в виде собственности и авуаров, с которых он платит налоги. В числе собственности, помимо двух строительных предприятий, акций различных компаний, домов, включая парижский дом на улице Помп, где он легально проживает, – тридцать гектаров земли и дом на юго-восточном побережье Франции, в Сен-Тропе.
Основная деятельность холдинга – строительство недвижимости и высокодоходные инвестиции: коттеджные поселки, покупка земли и, следовательно, недвижимого имущества в целом. Все сопровождается крупными инвестициями в акционерный капитал во всем мире, в строительные компании и предприятия по производству строительных материалов. Кто-то сказал мне однажды: «Что по-настоящему поражало в вашем отце, так это способность работать над новой идеей: вначале он присматривался к ней, пытаясь обнаружить небольшой просвет, щель, чтобы с удивительной быстротой погрузиться в нее, а затем расширить и развить. Просто он думал быстрее, чем кто-либо из его окружения. Едва другие начинали понимать, что он строит, как он уже увлекался чем-то другим. Есть два способа добиться успеха: терпение и молниеносная скорость исполнения замыслов. Твой отец относился к тем, кто любил скорость».
Так прошло десять лет, с 1946 по 1956 год. За это время основная идея отца показала свою состоятельность. Но он не удовлетворен и бросается от одного дела к другому. Я хорошо помню последние месяцы нашей короткой совместной жизни, его поездки в Латинскую Америку и тот кусок металла, который он однажды мне показал: «Этот металл почти не применяется в промышленности. Но придет день, когда он станет самым востребованным. И тогда я, нет, мы с тобой окажемся в числе тех немногих людей во всем мире, которые будут контролировать его поступление на рынок…»
Я многого не знаю, но мне точно известно, что холдинг был зарегистрирован как акционерная компания открытого типа на Кюрасао, острове Нидерландских Антил. Холдинг, перед тем как внезапно исчезнуть в сентябре 1956 года, владел полным пакетом акций других компаний со штаб-квартирами в Неваде, Гонконге, Лихтенштейне, которые в свою очередь владели ценными бумагами третьей категории компаний, зарегистрированных в США, Аргентине, Люксембурге, Франции…
То была сказочная пирамида во главе с холдингом Кюрасао, который сам находился под управлением скромной дочерней компании частного банка Мартина Яла.
В августе 1956 года все указывает на то, что пирамида эта отлита из чистого золота.
Я в трех метрах от дома и по-прежнему ничего не вижу. Слева – низкое строение гаражей и хозяйственных помещений, а также небольшой навес, под которым стоял мой красный «феррари» с моторчиком в половину лошадиной силы. Все двери закрыты на цепь с висячим замком. Что внутри – не видно.
Передо мной сам дом. В нем двенадцать или четырнадцать комнат, точно не помню. Это подковообразное строение, фасадом обращенное к морю. В нескольких метрах от меня – входная двустворчатая дверь. Я подхожу и стучу в дверной молоток. Удары глухим эхом отдаются в ночной тишине. Проходит несколько минут – никакого отклика.
Решаю включить карманный фонарь, который купил в Сен-Максиме: его луч освещает высокую изгородь из олеандров справа от меня; кустарники заросли, и у меня появляется ощущение, что я попал в заброшенный сад.
Кто купил дом после того, как его выставили на продажу?
Я обхожу здание, вдыхая полной грудью запах моря. Передо мной сад с пальмами, агавами, бугенвиллеями, юкками, олеандрами, неопалимыми купинами и плотными рядами гортензии. Бассейн должен быть слева, а внизу – трехметровая каменная стена с железной решетчатой калиткой и лестница, по которой мы спускались к пляжу и понтону. Я разворачиваюсь и поднимаюсь по ступенькам, ведущим к сердцу подковы, к этому полупатио, где мы ужинали вечерами под шелест крыльев ночных бабочек. Все шесть застекленных дверей террасы тоже заперты, и, когда луч фонаря освещает фасад, опущенные жалюзи, черепичный фриз под крышей дома, у меня появляется уверенность, что эти наружные двери и эти ставни не открывались годами. Но возможно ли, чтобы в июле, в разгар летнего сезона, когда в Сен-Тропе царит оживленная курортная жизнь и каждый квадратный метр на вес золота, «Капилла» оставалась пустой и нисколько не изменившейся?
Решаю воспользоваться одной из своих детских лазеек: забираюсь на крышу высокого сарая и оттуда, цепляясь за черепицу крыши дома, продвигаюсь к маленькому окошку, через которое дневной свет попадает на чердак. Крючок створки поддается легко, как и раньше, и минуту спустя я уже на втором этаже. Постепенно меня охватывает смутное волнение и неуловимое чувство незримого присутствия. Однако я ручаюсь, что дом пуст. И в то же время… Слева – зияющая пустота галереи, ведущей в огромную гостиную, справа – спальни. Моя спальня находилась в конце галереи, и из ее окон было видно море. Спальня родителей располагалась в другом крыле дома, так что каждое утро, как только я просыпался, мы, стоя на своих балконах, которые разделяли восемь или девять метров патио, разговаривали с мамой и она мне улыбалась.
Я останавливаюсь в нерешительности. Что-то привлекает меня внизу. Спускаюсь по лестнице ступенька за ступенькой и чувствую, как погружаюсь в такое знакомое и в то же время неизвестное пространство. Меня охватывает непреодолимое влечение, я чувствую его и в то же время не совсем понимаю. Луч фонарика непроизвольно останавливается на двери комнаты в левом крыле, на одной линии со спальней родителей. Она слегка приоткрыта. Снова воспоминания: мы с отцом на пляже, прошло несколько минут после отъезда посетителя. Три красивые голые девушки смеются, поглядывая на моего отца. Он что-то говорит им своим низким голосом с легким акцентом, который проявлялся у него, когда он разговаривал по-французски. Мы покидаем пляж, поднимаемся по лестнице, пересекаем сад. Красный «феррари» стоит в патио в окружении шезлонгов. Я забираюсь в машину. Мимо проходит отец, взъерошивая на ходу мои волосы, и направляется в левое крыло дома. Там находится его кабинет. В доме мы с ним одни. Мать куда-то ушла, а слуги – Паскаль с женой – отправились за покупками. В кабинете отец с кем-то разговаривает по телефону. Он говорит по-немецки. Я пытаюсь завести «феррари», но безуспешно. Глухой удар и сдавленный крик. Не успев сообразить, что произошло, бегу на крик, вбегаю в кабинет и вижу лежащего на полу отца. У него багровое лицо и широко открытые глаза. Он ползет ко мне, протягивает руку, пытается что-то сказать. Я кричу и, поскольку в доме больше никого нет, бросаюсь поначалу на кухню, а оттуда мчусь к пляжу. Три голые девушки в ста метрах от меня, а я продолжаю бежать по пляжу с мокрым твердым песком, и, когда мы вчетвером возвращаемся в дом, отец уже мертв. Он лежит навзничь с открытым ртом, а в его руке – обсидиановая фигурка Будды цвета черного гагата. У Будды голый живот внушительных размеров, поднятые кверху руки с растопыренными пальцами, его голова слегка наклонена к плечу, глаза полузакрыты, а смеющееся лицо выражает непостижимый восторг.
Я толкаю дверь и, следуя за лучом фонарика, вхожу в кабинет. И это потрясение. Тот же ковер, и кажется, что я вижу складки в том месте, где отец упал, а потом полз, подминая ворс ковра своим телом. Телефон, по которому звонил отец за миг до своей смерти, на прежнем месте. Все на своих местах, как тринадцать лет назад, все целое, невредимое, все такое знакомое. Время остановилось, когда мне было восемь лет. Я прислоняюсь к закрытой двери, прижимаюсь к ней головой и впервые за тринадцать лет плачу в темноте, которую пробивает луч фонарика, наткнувшийся на обсидиановую фигурку Будды на углу письменного стола. И Будда улыбается мне своей непроницаемой улыбкой безграничного блаженства.
Отец умер двадцать восьмого августа 1956 года от сердечного приступа в кабинете своего дома в Сен-Тропе во время разговора по телефону с каким-то человеком, и эта незримая личность так никогда и не объявится. Отцу было тридцать семь лет.
В августе 1956 года, согласно завещанию отца, я становлюсь его единственным наследником. Теоретически я должен был вступить во владение холдингом Кюрасао по меньшей мере как держатель акций на предъявителя, которые предоставляют право собственности на холдинг. Однако на этот счет воля отца в завещании оказалась неожиданной: он назначил двух получателей завещательного отказа – Мартина Яла и моего дядю Джанкарло. Завещательный отказ распространяется на все авуары, официальные активы во Франции, Швейцарии и холдинг, как это определено в договоре о доверительном управлении.
Теоретически.
На деле я вступаю в права владения пакетом акций на предъявителя. Я видел их, мне их показывали, и, когда мне исполнился двадцать один год, я их даже получил. Но они уже ничего не стоили, даже бумага, на которой они были напечатаны. Пришло время объяснить мне, что состояние отца с самого начала строилось с непозволительной поспешностью: «Твой отец, говорил мне Его Банкирское Величество Мартин Ял, был исключительным человеком, настоящим творческим гением. Но как любая проходка тоннеля предполагает его укрепление по мере продвижения, так и создание предприятия предполагает его разумное управление. Несмотря на мои настойчивые и горячие просьбы, твой отец никогда не хотел заниматься установкой укреплений. И однажды все рухнуло. Я сожалею, но этот крах мог стать причиной сердечного приступа, который унес его в могилу…»
Так объясняет Его Банкирское Величество. И подчеркивает: «Несмотря на мои настойчивые и горячие просьбы». Вряд ли в мире еще найдется человек, которого бы я так ненавидел. Даже больше, чем дядю Джанкарло, которого всегда считал дураком.
Что касается активов отца во Франции, то, как мне объяснят, они полностью пошли на возмещение потерь. Тому есть документальные подтверждения, и получатели завещательного отказа, разумеется, готовы предоставить все бумаги любому специалисту в случае беспочвенного подозрения их в недобросовестности. «Франц, мы с твоим дядей заботились о тебе, внимательно за тобой следили и, откровенно говоря, баловали, быть может, даже слишком. Тебе двадцать один год, и по французским законам ты уже совершеннолетний. Учитывая дружбу и привязанность к твоему отцу, мы решили, несмотря на его ошибки, выделить тебе из наших собственных средств капитал, который позволит тебе самому пробиться в жизни вопреки весьма плачевным успехам в учебе».
Я взял протянутый мне чек и уехал, на сей раз в Англию, в Лондон, где жила та (ныне покойная) девушка и где, как я думал, мне будет не так одиноко. Я уехал в смутное для себя время, полусумасшедшим от ненависти к этим двум господам. Я даже был более чем полусумасшедшим: за два месяца и две недели я с губительным неистовством потратил эти деньги.
Я сижу в черном кожаном кресле с высокой спинкой в кабинете отца. Будда обращен ко мне спиной. Я разворачиваю его, и мы смотрим друг на друга, хотя у него и полузакрытые глаза. Из нагрудного кармана рубашки я достаю анонимное письмо, которое получил в Момбасе за два дня до Рождества. Перечитываю его в тысячный раз:
«В момент прекращения срока действия завещательного отказа вы получили около миллиона французских франков как остаток наследства вашего отца. На самом деле наследство составляло от пятидесяти до шестидесяти миллионов долларов, которые путем обмана были у вас похищены».
Для Мартина Яла и дяди Джанкарло мой отец умер в августе 1956 года в этом самом кабинете; он умер от сердечного приступа и разорившимся до такой степени, что нужно было продать совершенно все, включая этот дом с кабинетом. И тем не менее из любви к моему отцу Его Банкирское Величество и дядюшка Джанкарло оплатили мою молодость, избаловали меня (точнее, испортили, и, как я теперь понимаю, это было сделано не по доброте душевной) и даже к моему совершеннолетию щедро одарили меня из собственных средств, как награждают приданым девицу на выданье.
Это их объяснение.
И оно лживое, я в этом уверен.
В следующие три часа я обыскиваю каждый уголок дома в надежде, что отец оставил мне, и только мне одному какой-нибудь след, знак. Если он с того света отправил мне извещение о посылке, то спрятать ее он мог только в этом доме, и нигде больше. Он любил «Капиллу» и не променял бы его ни на что на свете. И это должно было меня насторожить: даже в самые худшие дни отец, несомненно, нашел бы способ спасти этот дом. Но он ничего не сделал. Мне стало все понятно.
Я покидаю дом с первыми лучами солнца. И забираю с собой, точнее краду, восторженного Будду.
В девять часов я уже в Каннах, где останавливаюсь в отеле Carlton. Принимаю душ и начинаю звонить по телефону. Почти через час мне удается связаться с нотариусом.
– Меня интересует имение в коммуне Сен-Тропе, недалеко от пляжа Пампелон-Таити. Называется «Капилла».
– Имение не продается.
– Я готов обсудить любую цену.
– Простите, мсье. О продаже не может быть и речи.
– Но мне сказали, что там давно никто не живет.
Молчание.
– Вас, должно быть, неправильно информировали, мсье.
Голос вежливый, но твердый, с легким провансальским акцентом.
– Могу я хотя бы встретиться с владельцем? Мне просто необходимо поговорить с ним напрямую по личным причинам.
Пытаюсь, не называя себя, пробить эту стену. Напрасно.
– Это тоже невозможно, мсье.
Этот нотариус – скала. Поблагодарив его, я кладу трубку и еще какое-то время понуро смотрю на аппарат. А если бы я предложил деньги? Если информацию невозможно получить бесплатно, то ее, как правило, покупают. Однако я убежден, что и здесь меня ждала бы неудача. Какое-то время меня не покидает досада. Что за тайна? Кто мог купить «Капиллу» только ради того, чтобы сохранить ее нетронутой, такой, какой она была тринадцать лет назад, двадцать восьмого августа, в день смерти отца?
Конечно же, это не мой дядя Джанкарло, у которого сентиментальности не больше, чем у мраморной статуи, и к тому же он ненавидел своего слишком талантливого брата.
Мартин Ял? Смешно.
Однако, по словам нотариуса, «лицо, владеющее имущественными правами» на момент покупки имения, согласилось на значительные финансовые издержки. Даже тринадцать лет назад тридцать гектаров земли в Сен-Тропе имели высокую цену, особенно с домом с пятнадцатью комнатами, бассейном, надворными постройками и частным понтоном. Выходит, что покупатель был человеком небедным. Он и сегодня настолько состоятельный, что не нуждается в этом мертвом капитале. Этот таинственный владелец богат.
Во второй половине дня я покидаю Канны и вечером десятого июля заселяюсь в парижский отель Ritz, в котором останавливаюсь впервые, надеясь, что здесь меня не узнают по причине проделок моей сумасшедшей юности. Снова переговоры по телефону. Человек, которого я ищу, приглашен этим вечером на деловой ужин (я узнаю это благодаря своей настойчивости, угрозам и уговорам) в ресторан La Bourgogne, что на проспекте Боске. Я связываюсь с ним по телефону. Вначале он озадачен, потом, когда я говорю о деньгах, более любезен и наконец согласен на встречу на площади Трокадеро, у выезда на проспект Жоржа Манделя. Он неуверенно спрашивает:
– Как мы узнаем друг друга?
– Я буду в «роллс-ройсе».
Это немного его успокаивает, поскольку на «роллсах» людей не похищают. Он без опоздания приезжает на встречу, пристраивает свой «ситроен» рядом с «роллсом», останавливается в нерешительности, затем, убедившись, что я один и вдобавок ко всему молод, садится рядом, замечая:
– Вы очень молоды.
– Это не заразно.
Я протягиваю ему пачку банкнот.
– Здесь десять тысяч долларов.
Он нервно смеется, и потом мы не раз будем смеяться вместе, вспоминая подробности нашей первой встречи.
– Если вы ищете себе помощника…
Я протягиваю ему блокнот и карандаш.
– Банк Мартина Яла, штаб-квартира на проспекте имени генерала Гизана в Женеве. И Джанкарло Симбалли. Адрес…
Я рассказываю ему все, что знаю о Кюрасао, и о своих подозрениях, точнее о своей уверенности в том, что тринадцать лет назад произошло незаконное хищение денежных средств.
Он восклицает:
– Через столько лет?!
– Для начала я хочу знать, имело ли место хищение, затем, если еще можно что-то доказать, короче, можно ли распутать эту махинацию. И наконец я хочу также знать, кто, кроме Яла и Джанкарло Симбалли, мог принимать в ней участие.
– Если была махинация.
– Могли бы вы провести расследование? Крайне важно, чтобы оно было негласным. Я вовсе не хочу, чтобы Ял догадался об этом.
Он внимательно смотрит на меня. В полумраке салона автомобиля меня трудно разглядеть, к тому же на мне темные очки. Он спрашивает:
– Откуда вы узнали мое имя?
Называю имя последнего собеседника, на которого я вышел после пятнадцати или двадцати телефонных звонков. И это не кто иной, как действующий министр.
– Я обязательно проверю, – говорит он.
– Разумеется.
Видно, что его недавние сомнения уступают место заинтересованности. Его увлекает окружающая меня тайна. Что касается меня, то, должен признаться, он меня забавляет. Мой собеседник – Марк Лаватер. Ему около пятидесяти лет, и в будущем он станет одним из моих самых близких друзей. В прошлом он крупный чиновник французской налоговой администрации, возглавлял управление ревизионного контроля на улице Вольнея, затем перешел на другую сторону баррикад, превратившись в советника для тех, на кого охотился до этого. Мне чрезвычайно расхваливали его деловые качества, количество связей, в том числе международных, и, как выразился мой последний собеседник, «надежность».
– Трудность положения, – говорит он, – в том, что ваше дело ограничено в основном рамками Швейцарии. Там мне менее комфортно, чем во Франции. С другой стороны…
– Вы согласны или нет?
– Позвольте мне закончить. С другой стороны, это расследование в настоящее время будет затруднительным и во Франции, учитывая то, что его проведение не должно привлечь внимание упомянутых вами лиц…
– Да или нет?
– Вместе с тем у меня много друзей в швейцарских налоговых органах…
Он рассматривает пачку банкнот. Я добавляю:
– Сто тысяч долларов по окончании расследования. Когда у меня будут ответы.
Он смеется.
– Я, пожалуй, соглашусь, – отвечает он. – Не из-за денег. Скорее, потому… По правде говоря, ваша история меня заинтересовала. В самом деле.
В ту минуту я не поверил ему. И ошибся. Об этом я узнаю позже. Я говорю:
– И еще кое-что…
Я рассказываю ему о доме в Сен-Тропе.
– Я хочу знать, кто его купил. И не менялись ли за тринадцать лет его владельцы.
Он задает мне несколько вопросов. Нет, он не сможет связаться со мной по телефону, наоборот, перезвонить ему придется мне. Он улыбается, на сей раз с довольным видом:
– А если я спрошу ваше имя?
Я возвращаю ему улыбку:
– Зовите меня Монте-Кристо.
На следующий день, одиннадцатого июля, я возвращаюсь в Момбасу. Саре я объясняю:
– Без тебя Сейшелы как обед без сыра.
И немного позже Хаятту:
– Ты предлагал мне уехать с тобой в Гонконг? Я согласен. С этого дня Кения уходит в прошлое.
Про Хаятта с уверенностью можно сказать только одно: он хорошо знает Гонконг, в котором родился. Он говорит по-китайски и, понятное дело, чувствует себя здесь как рыба в воде.
В Гонконге мы уже две недели. Из Момбасы я вылетел через четыре дня после возвращения из Европы. Я предложил Саре поехать вместе со мной. Поначалу она согласилась, но потом отказалась. Я видел ее нерешительность, да и сам тоже сомневался, не зная, хочу ли я продолжать эту связь или лучше воспользоваться отъездом как отличным поводом для разрыва. «Быть может, я приеду к тебе. Возможно, я смогу найти там работу». – «Тебе не надо искать работу, с тобой буду я». Она отрицательно качает головой:
«Ну вот еще, мне нужна свобода».
В Гонконге, в районе Централ, я иду по Де-Вё-роуд, тянущейся вдоль бухты Виктория, – маршруту, который прошел уже двадцать или тридцать раз со времени своего приезда, – и вскоре выхожу к двум зданиям серо-бежевого цвета с уродливыми и в то же время впечатляющими геометрическими формами. Слева – здание Банка Китая, справа – Банка Гонконга и Шанхая. Как раз в последний я перевел триста пятьдесят тысяч «кенийских» долларов, которые сейчас ждут своего часа.
Мне еще нет двадцати двух лет – исполнится через два месяца. Что же произошло в Кении? Порой я спрашиваю себя, не приснилось ли мне все это. Неужели я впрямь заработал столько денег? И так быстро? Или мне помогли исключительные обстоятельства? Чего я сто́ю на самом деле?
Фуникулер на Пик находится в нескольких сотнях метров от отеля Hilton. Склон необычайно крутой, и, по мере того как вагон-трамвайчик (их в действительности два, и они уравновешивают друг друга) набирает высоту, от открывающегося вида захватывает дух: поначалу собор Сент-Джонс, вытянувшиеся вдоль моря холмы, слева – ботанический сад, а затем, когда сказочная панорама расширяется, появляются высотки в бухте Виктория, сама гавань и «Счастливая долина», районы Ваньчай и Козуэй-Бей, а напротив, за проливом, примыкающий полуостров Коулун со своей главной артерией Натан-роуд.
Я заработал триста пятьдесят тысяч долларов. Случайно или нет. Я могу остановиться на этом, обустроиться, купить табак-бар или на ком-нибудь жениться. Я также могу поставить все на карту и начать все заново, как в Момбасе.
Я стараюсь не поддаваться одолевающей меня хандре, понимая, что это настроение вызвано отчасти отсутствием Сары, по которой я скучаю больше, чем ожидал, и еще действующим на нервы беспокойством, когда начинаю думать о затеянном с помощью Лаватера деле. Но больше всего меня удручает Гонконг; в этом городе я чувствую себя не в своей тарелке, а бесконечно текущая азиатская толпа меня просто угнетает. И потом, что я здесь делаю? Я приехал сюда, поддавшись уговорам Хаятта, но, уже находясь здесь, понял всю непомерную сложность того, с чем мне приходится сталкиваться. И я с грустью вспоминаю свои выезды на Килиндини-роуд за рулем «мини-мока», когда, проезжая мимо магазинов и лавок, приветствовал клиентов и друзей, для которых был Маленьким Шефом. Здесь я никто и не вижу способа кем-то стать.
Выйдя из фуникулера, я направляюсь к Ло Фунгу – ресторану, находящемуся на третьем этаже башни на пике Виктория. Между столиками снуют официантки с повешенными на шею корзиночками с десятками, если не с сотнями видов различных яств. Как объясняет Хаятт, Лo Фунг – ресторан, специализирующийся на димсамах – блюдах, «приготовленных на пару по-кантонски», а еще «димсам» на кантонском диалекте означает «маленькое сердце». Хаятт уже на месте, и он машет мне рукой.
– Ну и вид же у тебя! Что-то не так? Только не строй недовольную физиономию перед парнем, который сейчас сюда заявится. Не важно, что он коммерческий директор, от него многое зависит.
Хаятт принимается восторженно описывать ожидающее нас будущее, но как раз в эту минуту появляется тот самый человек. Это худощавый элегантный китаец, одетый в кремовый костюм, похоже чесучовый, который говорит по-английски с легкостью ведущего Би-би-си. Он позволяет себе некоторое высокомерие в разговоре с Хаяттом, что, быть может, мне только кажется. Со мной он ведет себя иначе. Моя молодость вызывает у него интерес. Воспользовавшись коротким молчанием Хаятта, он спрашивает меня:
– Вы давно компаньоны?
Я улыбаюсь:
– Годы. Мы вместе воевали.
Два часа спустя мы втроем едем по материковой части Китая через Коулун в Новые Территории. Пытаюсь сориентироваться: мы направляемся к северо-западу. Слева вижу остров.
– Цинь-Йи, – поясняет Хаятт. – Сюда из Гонконга перевели судоверфи.
Мы проезжаем мимо бесконечных построек пивоваренного завода San Miguel, который своим пивом «Циндао» заполонил азиатский рынок. Немного погодя слышу:
– Мы на месте.
На заводе работает шестьсот человек. Ни одного европейца, только китайцы.
– Игрушки, Франц, – объясняет Хаятт. – У меня все готово: места поставок в Европе, контакты с дистрибьюторами, все.
– Ты знаешь, во сколько здесь по сравнению с Европой обходится производство куклы? Меньше половины стоимости. От силы! Надежнейшее дело. Работаем три или четыре месяца в году, а остальное время…
Он широко разводит в стороны свои маленькие пухлые руки. Для Хаятта будущее уже здесь: спокойное, надежное, квартал работы, а затем dolcefarniente до самого конца года. Короче говоря, выход на пенсию.
– Я вижу, тебя это не волнует. Ты имеешь что-то против игрушек? Не забывай, что скоро Рождество.
Я ничего не имею против игрушек, против праздности. Но я не представляю свою жизнь в Гонконге, среди океана человеческих лиц, которые кажутся мне одинаковыми.
Мы посещаем цеха, где все нам любезно улыбаются, мастер или кто-то в этом роде обрушивает на нас поток информации, которую переводит Хаятт. А я думаю о Саре, вспоминаю ее стройное, легко возбудимое тело и насмешливый взгляд слегка прищуренных глаз…
– Здесь у нас конструкторское бюро.
Нам показывают многочисленные штуковины, работающие на батарейках: животных, машинки, разных кукол, умеющих плакать и говорить «мама» на тридцати шести языках. Мы находимся на этом заводе уже не менее двух часов, и меня начинает охватывать смертельная скука. В ту минуту, когда мы собираемся уходить, что-то привлекает мое внимание. Это похоже на чесалку для спины. И это на самом деле чесалка.
– Она электрическая. Вы просто кладете ее себе на спину, и дальше она работает сама, без вашей помощи. Это всего лишь гаджет.