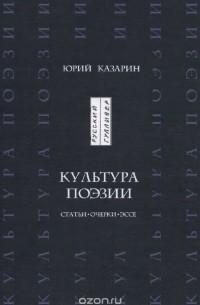Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
I. Вещество времени
Вещество времени: «Мелом и углём»
(Кушнер А. Мелом и углем. – М, : Мир энциклопедий Аванта + : Астрель : Полиграфиздат, 2010. – 127 с.)
Эту книжку стихотворений, несмотря ни на что, я бы купил только благодаря её названию «Мелом и углём». Вот имя времени вообще и двадцатого века в частности. Черно-белое вещество времени. И вещество маркера / карандаша / мелка-уголька или фломастера, – а лучше старинного шестигранного деревянного, толстого карандаша, двойного, обоюдописчего: сине-красного, сине-зеленого, желто-оранжевого – любого, а лучше – черно-белого. Александр Семёнович Кушнер отдает первенство белому («мелом») цвету (значит, все-таки хорошего и светлого было больше?); или мел в данном сочинительном словосочетании должен доминировать по метрическим причинам? Или хориямб (или хорей с пиррихием во второй стопе) совпал с метрономом хроноса? Как бы то ни было – поэзия всегда истинна, а поэт, естественно, всегда прав.
Как только ни называли век двадцатый: и свинцовый, и кровавый, и – отчасти – серебряный, и красный, и Бог знает какой еще. И все сорок имен века были оценочны и модальны, вернее, субъективно модальны, т. е. категоричны и беспощадны в своей образности и эмоциональности. Поэт же – настоящий и проживший целую эпоху с переходом в иной век и в новое тысячелетие – именует время свое объективно и, как всегда у А. Кушнера, интимно, обезоруживающе прямо, но негромко, почти тихо, почти шепотом или вполголоса, – но абсолютно точно, точно, точно, эксплицируя полную трёхстороннюю адекватность частной жизни, исторической эпохи (любого отрезка социального времени) и судьбы поэта.
Это – не только о себе, но и о референте сравнения – римлянине, т. е. вообще о человеке в любом времени.
В семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века стихи Кушнера буквально спасали провинцию от ужаса совстихотворства: кто знал тогда Мандельштама, тот понимал, что Кушнер – его наследник; кто не знал стихов Осипа Эмильевича, тот воспринимал Александра Семёновича настоящим, современным и единственным Мандельштамом. Что впоследствии и привело к неоднозначному отношению к питерскому / ленинградскому поэту (В. Леоновичем и М. Синельниковым, явными мандельштамистами, роль предтечи по каким-то причинам сыграна не была). Смею утверждать: Александр Кушнер, помимо распространения по стране своих поэтических книг и сборников, а также чистой энергии чистой культуры, памяти и традиции, – создал в мутные и непроглядные времена по меньшей мере видимость горизонта и горизонтов (не формата и фрейма!) поэзии, происходившей от той самой «поэзии поэзии», о которой говорил и мечтал Н. В. Гоголь, – от музыки языка и просодии, от красоты русского стиха и независимого поэтического смысла, исходящего прямо от Бога сквозь метафизику и онтологию, сквозь прекрасные (основное значение термина) стихотворения бывшего ленинградского школьного учителя словесности.
Поэзию Кушнера всегда (в советское время) считали если не элитарной, то интеллигентской уж точно. Думаю, что это не так: стихи Кушнера обладают слишком тонкой оболочкой социальности и достаточно мощной энергией нравственности природной, чтобы нравиться читателям Вознесенского и Евтушенко (из «эстрадников» ближе всех к нему была Ахмадулина – по тональности и эстетической интенции). Кушнер не стоял в ряду родственных ему по содержательной поэтике Д. Самойлова, В Соколова и А. Тарковского – те были постарше и к тому же москвичи. Но талант Кушнера изначально основывался на золотом сечении русской поэтической культуры, просодии и красоты. Он был одинок и в Ленинграде-Питере. Но – не одинок в провинции, здесь его знали и любили. Прежде всего за язык: никто так в прошлом веке не работал с уменьшительными (не всегда ласкательными) формами именной лексики. Кушнер здесь виртуоз. Это его идиостиль. Идиолект. Даже поэтолект. В этих формах – его отношение к миру. Такие формы прежде всего модальны. Они к тому же идентифицировали поэта как носителя добра, а не тотальной иронии (Бродский и др.), которая, как известно, не познает мир (предмет), но разрушает его.
Храню книги Кушнера: его «Прямая речь» – последняя книжка, прочитанная моей матерью незадолго до кончины…Не буду касаться оценок поэта, появившихся в бульварных мемуароманах двух небезызвестных авторов. Стыдно. Но отмечу, что некоторые поздние публикации и творческий юбилейный вечер поэта если не разочаровывали, то настораживали знатоков его книг – и поэтических, и поэтологических. Нельзя махнуть (или – махать?) рукой на поэта! Нельзя. Потому что «Вертер» не будет дописан никогда.
И вот – действительно: (не хочется произносить банальное слово «новое», «второе» «третье» и т. д. дыхание) новая книга, писанная мелом и углем. Книга небольшая и большая одновременно (120 с.), по моим оценкам (весьма субъективным) содержит в себе два десятка превосходных, замечательных стихотворений (а это еще одна – книга: книга в книге).
Книга состоит из восьми разделов, каждый из которых имеет свое очень точное и – что очень важно – концептуально красивое название. Не название – имя: «Мелом и углем», «Темная материя», «Обгоревшее стихотворение» (перечислил не все и не по порядку). «Мелом и углем» – номинация жизненных итогов; «Обгоревшее стихотворение» – именование синтеза вечного (поэзия) и конечного (частная, единичная жизнь); «Темная материя» – называние того состояния, когда поэт предвидит ненарекаемое и безвидное, – это загляд понятно куда. То есть в книге ощущается явное (и явленное в слове) духовное движение от физического к интерфизическому и далее – в метафизическое. Такой вектор движения души создает в сфере вербальности эффект подлинности, достоверности и успокоенного, уговоренного, вразумленного отчаяния.
В целом книга «Мелом и углем» достойна серьезного развернутого исследования. Я же замечу, что некоторые стихотворения имеют чересчур определенные (в дидактическом отношении и поэтому ослабленные) финалы. Но! Два десятка стихотворений содержат в себе, как любит говорить один мой знакомый поэт, чистое золото.
Стихи (строки) этой книги стали силлабически короче и мужественнее. Нет, они – просто мужественны: и ритмически, и рифмически.
Кушнер всегда был афористичен (вспомним: Времена не выбирают…), но здесь афористичность имеет не характер максимы или гномы, – но являет иную, новую, свою природу, когда слово, реализуя предметные смыслы, пронзает образность и проникает в глубинные, духовные слои онтологической семантики и прочно, намертво (в концептуальном плане) входит (лучше – заподлицо) в подлинную поэтическую идиоматику.
Вот так, в обход мэйнстрима и постмодернизма, русский поэт Александр Кушнер помогает поэзии появляться и быть. Поэт синтеза, Кушнер обитает в гармонии: только в ней он мягко, но накрепко и навсегда соединяет пространство и время, душу и плоть, Творца и творца.
Найдите новую книгу Александра Кушнера, прочитайте её, и тогда, может быть, станет почти понятно, как века два в один соединились.
Два Рыжих
Есть несколько представлений о человеке: обывательское, социальное, бытовое, душевное и онтологическое (бытийное). Например, мой старый товарищ и знакомец, литературовед, критик и редактор Д. обычно оценивается именно таким «веерным» способом: выпивоха, респектабельный красавец-мужчина, эрудит, высокий профессионал, грубиян, остроумец, нигилист, человек с трагическим мироощущением и т. д. (это лишь начало оценочного ряда – Д. куда сложнее и интереснее, чем его образ, мерцающий в данном оценочном спектре).
Утверждаю: Пушкиных было два (три, четыре etc.). Возьмём в руки «Пушкин в жизни» В. Вересаева – и поймём, что даже внешне (и, естественно, личностно) Пушкин виделся и запоминался его современниками абсолютно по-разному. Вот сравнительная (далеко не полная) таблица образов двух Пушкиных, запечатлевшихся в «народном» сознании:
Как видим, Пушкиных явно было два. Действительно же Пушкин представляет собой толпу пушкиных. Так и жил – толпой… Не углядишь, где настоящий, подлинный. Но! Как поэт (Поэт) Пушкин был необыкновенно монолитен, целен и абсолютно совершенен: не эталонен, но образцов. Таков был и Мандельштам. Поэт Мандельштам. Свидетельствую: только у Пушкина и Мандельштама нет ни одного слабого стихотворения. У остальных – есть. Всё это результат особого качества активации и реализации языковой способности поэтической личности.
Какова природа такого двойного / двоящегося / множащегося образа поэта? Природа двойничества (раздвоения?), естественно, имеет комплексный характер: во-первых, восприятие поэта кем-либо; во-вторых, самопрезентация, саморежиссура поэта; в-третьих, мифологизация и автомифологизация поэта; в-четвёртых, научное представление / портретизация поэта; в-пятых, и наконец, объективная картина поэтического мира автора, её сферы, части, комплексы, компоненты, элементы и кванты, – всё это создаёт иногда не просто сложный, но двойной, тройной и более –ой образ самого поэта и образ созданного им.
Раздвоение поэта – процесс телескопический: внешнее тянет за собой внутреннее и, наконец, душевное, поэтическое, духовное. Два Бродских: циник и трагик; мрачный романтик и иронист; лирик и пошловатый ёрник; «мученик» и «кальвинист»; певец (как читал он свои стихи! – не стихи, псалмы) и скабрёзник и т. д., – оппозиций таких десятки (у любого крупного поэта), но: все эти противоположения дизъюнктивны, то бишь несовместимы! Лирик и скандалист Есенин. Эксперименталист, лирик и «бухгалтер» Заболоцкий. Ахматова – одновременно и «Пушкин», и «Сафо», и императрица, и хранитель-оборонитель великой традиции нашей словесности. Список бесконечен (в рамках персональной вечности словесной культуры). Можно и не обращать внимания на данный феномен. Но когда понимаешь, что, вместо естественного порождения, становления и закрепления в сознании образа поэта, в социальной сфере литературы начинает расширяться и ускоряться процесс имиджмейкерства (брендинг, мода, пиар etc.), – то приходится уже не хвататься за голову, а освобождать руку для пера, которое к бумаге…
Смерть Бориса Рыжего моментально была откомментирована в местных СМИ (не буду повторять глупости и пошлость), один журналист то ли в спешке, то ли в истерике воскликнул: «Умер современный Пушкин!». Ходили слухи. Слышались рыдания. Близкие и друзья были в гибельной растерянности. Родные – убиты. Пока всё это звучало, всхлипывало и восклицало, мы: отец Бори Борис Петрович, Олег Дозморов и я, грешный – разбирали архив (повторю фразу из своей книги о Борисе: я не был его другом, мы были товарищами, и мы, как я это чувствую, уважали друг друга; после катастрофы родители поэта часто звонили мне и звали к себе на Шейнкмана, где я и застрял надолго – помогал с бумагами [трепетно и без энтузиазма] и где как-то само собой решилось и Маргаритой Михайловной, и Борисом Петровичем, и Ольгой, и мной, что надо бы книжку о Борисе написать – биобиблиографическую, – что я и сделал в 2003г.). Около 1200 стихотворений. Весь этот массив явно распадался на три неравные части: стихи «ранние», ювенильные, явно подражательные (Борис, по словам О. Дозморова, просил после его исчезновения не публиковать эти опусы); стихи «литературизованные» – игровые, «постмодернистские» [палимпсест], жанровые [послания, шутки, ироника и т. п.] и чистое стихотворчество очевидно тренингового характера; и стихи «настоящие», подлинного поэтического уровня – и глубины, и высоты. В целом стихотворное наследие поэта Рыжего распадается на две части (именно распадается, расслаивается, раскалывается): первая (бо́льшая, значительная) – литература, или литературное стихотворчество (очень талантливое и симпатичное), вторая – поэзия, или «поэзия поэзии», или поэзия чистая, или поэзия абсолютная. Грубо говоря, «физика» и «метафизика» (хотя и «физика», например, у Сергея Гандлевского, Ольги Седаковой и Дениса Новикова чудесным образом прорывается в «метафизику», оставаясь в ней жизнью, теплом, болью, счастьем и душой), т. е. конкретное и отвлечённое, плоскостное и сферическое, шарообразное у Рыжего не всегда взаимодействуют и взаимопроникают. Поэтому смею утверждать, что есть два Рыжих: литератор и поэт. Как Тютчев, как Есенин, как Пастернак.
Поэт (вообще художник – прозаик, драматург и т. д.) одновременно переживает две трагедии-катастрофы: бытовую / жизненную и бытийную / онтологическую. «Бытовой» боли было больше у Есенина, а у Тютчева – онтологической. Это невозможно рассмотреть и увидеть без оптического прицела Бога или ангела. Это можно только ощутить (читатель как со-поэт это чувствует всегда). На поэта и поэтов нужно смотреть, как на звезды. Оптикой иной – душевной… (Каждую ночь в Каменке я выхожу под звёзды и к звёздам. Иногда смотрю на них чистыми, горькими глазами. Иногда разглядываю в бинокль. И очень редко выцеливаю небольшим телескопом. Три вида оптики – три разные картины звёздного неба: общий план, средний и крупный. На поэта нужно смотреть одновременно тройным взглядом, вырабатывая в себе тройную оптику: глаза-сердце-душа, или – точнее – сердце-душа-дух). Два Рыжих – явление (-ия) нормальное (-ые). Рыжий сознательно литераторствовал в стихах (вспомним его почти Бродские установки [Иосиф Александрович отказался от прилагательных]: почаще употреблять имена людей, улиц, районов, городов и т. д.; более того, Ю. Л. Лобанцев, стихотворец и мэтр, учил Бориса «работать на публику» и т. д. и т. п.). И – Рыжий бессознательно был поэтом. Настоящим. Без Вторчерметов. «Без дураков». Поэтом по определению. Поэт знает, что нельзя одновременно «думать-творить» поэзию, деньги и социальную пошлость / пустоту. Да, человек – универсален: он может делать сразу несколько дел; и художник – универсален. Но поэт – нет! – он монофункционален: всё в нём – для стихов, о стихах, – всё – в стихах и всё – стихи.
Стихотворение – моё любимое. В нём Рыжий «преодолевает» явное тональное и интенциональное влияние Дениса Новикова и становится самим собой – подлинным Борисом Рыжим. И небо, выпитое до дна (уже не водка, а чистый спирт Господень), и только музыка одна, – вот метаэмоции и метасмыслы, отличающие истинную поэзию от симпатичной и талантливой стихотворной, литературной, явно попсовой размазни.
Стихотворение – просодически и интонационно талантливо, но вторично. Это уже было. У Д. Новикова. Рыжий же нагрёб здесь живой и жгучий муравейник имён собственных, чем и обаял, взял за грудки аудиторию… Эстрада. Молодость. Задор. Кураж. Огромный талант. (Кстати, у Новикова к концу его жизни стихи стали очень короткими, горькими, глубокими – метафизическими, метапоэтическими; и ещё раз «кстати», Д. Быков заметил, что Рыжий боялся, уйдя в метафизику, утратить популярность и тусовку; что-то в этом есть, но… Как-то уж очень всё это не по-русски. А Рыжий – русский поэт, «безбашенный», безоглядный и прямой). Думаю, в Рыжем начинали доминировать онтологическая тоска и потребность в онтологическом одиночестве (затворничестве), т. е. прямо говоря – в смерти. Такое состояние невыносимо тяжко и безысходно.
До слов «Я верю…» всё стихотворение – чистая литература, после этих слов – чистое золото.
Разговоры о том, что самоубийство – это пропуск в бессмертие, в вечность, – рассуждения о рекламной (саморекламной), саморежиссурной природе самоубийства, – пусты. Всё равно не поймёшь до конца – лучше самому попробовать. А?.. Вот то-то и оно. Оно-то… Самоубийство поэта – факт не бытовой, а – бытийный, онтологический. Непознаваемый. Необсуждаемый. Неизъяснимый. Да, жизнь у поэта двойная. Но смерть – одна. Одна на всех, чёрт побери!
После гибели Бориса Рыжего прошло 10 лет. В течение десяти лет публика знает и любит преимущественно Рыжего-стихотворца, литератора. Лет через 20 его узнают, как поэта. И обомлеют. Есть у Б. Рыжего несколько стихотворений, которые останутся в русской словесности и культуре навсегда. Пройдёт жизнь одного языкового поколения (25–30 лет) – и всё встанет на свои места: поэт Рыжий обойдёт стихотворца Рыжего и останется один. Как и положено поэту.
И всё такое, как любил говорить Борис Борисович… Такие дела, – добавлю я.