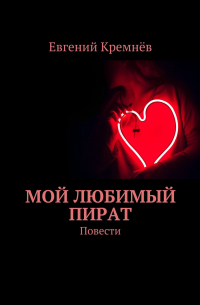Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Иллюстратор Designecologist
© Евгений Кремнёв, 2018
© Designecologist, иллюстрации, 2018
ISBN 978-5-4483-4733-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Мой любимый пират
I
…Когда чистила зубы, появился позыв к рвоте. И аппетита не было.
Врач в консультации принимал с двух. Оттуда вышла как в тумане: беременна! Ведь так береглась!.. Она прибавила месяцы, и получилось, что в январе 1994-го у неё родится ребёнок.
В полшестого вечера, как обычно, началась подготовке к работе. Особо тщательная. Сегодня она должна быть сверхнеотразима.
Наташа нарисовала глаза «спальные комнаты» с темными линиями теней на веках. Над ними высокомерно взлетели брови – мягко-коричневые – контрастировавшие с темной тушью. Природный цвет ее лица – фарфоровый. Румяна придали щекам цвет молочно-розовый. Довершал образ подведенный по кругу «рот-поцелуй».
Волосы, постриженные в форме карэ, были у нее лимонно-жёлтые. Наташа подняла подбородок, склонила голову набок, надула губы и прищурила глаза. Сходство Мэрилин Монро было потрясающим.
Сняв халат и трусики, она в зеркале шифоньера стада разглядывать себя, представляя, как эти аккуратные груди отяжелеют от молока и обвиснут. Девичьи бедра раздвинутся, давая место растущему плоду, живот раздуется, словно дирижабль. Она повернулась боком, пытаясь обнаружить изменения в плавном изгибе живота, уже содержавшем в себе нечто вроде ящерки или головастика. Одев трусики, она вертела в руках зеленое платье-резинку и представляла, как будет выглядеть в нем этак месяца через четыре.
Девушка бросила платье на диван, опустилась в кресло и, откинувшись на спинку, крепко зажмурила глаза, боясь разреветься и испортить макияж. Она мысленно послала пару крутых матов сильной половине человечества, и это помогло ей остановить уже вот-вот наворачивавшиеся слезы.
…Привычным взглядом она окинула еще полупустой зал. Сняла микрофон со стойки и глянула на Игорька – с блуждающей улыбкой инфанта переминавшегося за «клавишами».
– Три-пятнадцать! – махнул Игорек головой и нажал кнопку компьютеризированного инструмента. Этажерки колонок по бокам сцены ожили и выдохнули в зал упругую волну,
Наташа Уланова запела.
Песня исполнялась всего третий вечер и еще не приелась. Слегка прикрыв глаза, она погрузилась в сентиментальное варево попсовой лирики. Голос – теплого грудного тембра, – осыпаемый серебрянными звонами тарелок и прозрачными колокольцами синтезатора, порхал по акустическим этажам между тугими басами и хлесткими выщелкиваниями ударных; между роялем и откликавшейся на его зов медной группой. Во всю эту гармоническую мешанину, упрятанную в чипы хитрой электроники, вплетались жалостливые позывы Юрчищиной гитары и утробные кряки Стекловского тенор-саксофона.
Мужики, особенно южного нареза, отставив ножи и вилки, пожирали глазами виолончельную фигуру, женщины ревниво искали изъяны.
Отпев, Наташа ушла за колонну на сцене, собираясь переждать инструментальную композицию, но, едва сев, вновь встала: к сцене подрулил толстый «ара» – одетый дорого, но весь какой-то пыльный и оттого похожий на куль картошки. Он всучил Стеклу ассигнации и прогорланил, – Пусть карасавица ище сапает!.. Для Гоги сакажи!..
Справа от сцены сдвигали два стола и заново накрывали. Это было место Сережи и его команды.
Песня была старая, она пела не задумываясь, играла тембром и напрягалась всякий раз, когда в кабак входил кто-нибудь новый.
В перерыве сидела как на иголках и раздвоенная: одна половина ожидала Сережу, другая – улыбалась Игорьку, переминавшемуся с тарелкой в руке, наяривавшему бифштекс и улыбавшемуся клоунской улыбкой. Гитарист Юрчище – с вечно мятым воротником и съехавшим набок галстуком – курил у приоткрытой двери кондейки – пускал туда колечки; Стекло, забыв о толстозадой поклоннице, минутой, раньше поманившей его на «рюмку чая», прильнул ухом к саксофону и щелкал клапаном.
Сердце у Наташи тяжело забилось, когда Юрчище, слегка отстраняясь, улыбнулся в дверь. Стекло, оторвав ухо от сакса, сказал еще невидимому. – А-а, человек с красным лицом!..
«Не он!..»
В кондейку ввалился Валерок с зардевшейся физиономией. Он ухмыльнулся «Гы-гы-гы!», поздоровался с Юрчищем, который, придуриваясь, ответил ему таким же «Гы-гн-гы!».
– Пожди! Пожди! – сказал Игорек с набитым ртом, поддерживая Юрчищино придуривание, и протянул руку для рукопожатия.
– Когда долг отдашь, мля? – сказал Стекло.
– Да, Стекло, не души! – ответил Валерок, еще сильнее наливаясь красным. Он кивнул Наташе и цветом дошел до помидорной кондиции. – Чуваки! – он посмотрел на Юрчищу. – Гы-гы-гы! – оскалился тот.
– Я – серьезно! Песню сбацаете? «Скри…
– …Пожди! Пожди!.. – перебил его Игорек, ставя вылизанную тарелку на подоконник.
– …Конечно, конечно! – закивал головой Юрчище. – Деньги не нужны! Не-е!.. Блевать тянет от денег!.. Тоже на шару люблю песняки заказывать!..
– Си-минорную тебе Шопена! – сказал Стекло, откручивая клапан. Валерок, в кольце придуривавшихся музыкантов, вертел головой.
– Стекло-о?! – просунулась в кондейку голова толстопопой поклонницы.
– Лечу-у! – откликнулся саксофонист. Валера – морда-стоп-сигнал – упер руки в бока и сказал обиженно. – Чуваки, че жлобеете! «Скрипача» сбацайте!
– Конечно, конечно! – кивает Юрчище. – Шара – дело святое!.. Люблю играть на шару! А деньги – ни-ни!..
– Да, Юрок! Хули вы!..
– Водка что-то дорогая стала, – сказал Стекло, рассматривая открученный клапан. – Не кроет, что-ли? – он посмотрел на просителя. – Да, Валерок?..
– Ну, Стекло-о? – это толстопопая.
– Уже – всё.
– Да, будет ботл! Будет!.. Ну, вы зажлобели!.. – гнёт своё Валерок.
– Так зачем дело встало! – говорит Стекло. – Буфет – налево…
Юрчище вдруг перестает придуриваться и растягивает рот в преувеличенно радушную улыбку невидимке за дверью. Толстозадая исчезает. Стекло откладывает саксофон. Сладкая боль волнения пронзает Натащу от сердца до позвоночника.
Он вошел, как всегда, с высоко поднятой головой и в черном с иголочки костюме. В левой руке держал бутылку шампанского – любимый напиток. Здороваясь со всеми по очереди, он протягивал расслабленную кисть боксера и улыбался – весело и снисходительно. Сережа поставил шампанское на стол и сказал с ленцой. – Там… По ходу… Для братвы, что-нибудь наше…
Он был похож на монарха, вышедшего к своим подданным, и лишь Наташа позволяет себе фамильярность, – Привет, Чернов! – говорит она.
Глаза у Серёжи темно-коричневые с ослепительно белыми белками. Она слепнет под его взглядом, задыхается в разрежённом воздухе любви. Она примеряет мантию королевы и баюкает в колыбели юного принца.
…В пол-одиннадцатого в кабаке дым коромыслом.
Со сцены долбят лезгинку, под сценой – мелькающие в экстазе горского танца ноги южан-торговцев, а Наташа – вдруг свободная в конце последнего заезда – сидит в полумраке рядом с Сережей за их сдвинутыми столами, под змейками сигаретного дыма, в галдеже наливающейся братвы, и клонится к его плечу, впиваясь коготками в каменный бицепс. Она всегда так делает, когда он шепчет ей интимности. Например такие. – Как хочу тебя! Ты бы знала!..
Игорек поет медленный боевик. Душещипапельный.
Может сказать сейчас?..
Глаза Сережи, вдруг, делаются неуступчивыми. Он вперивается в выплывшего из-за качающихся пар лысого с мордой-колуном и бессмысленными глазами.
– Привет, Фил! – говорит колун.
– Привет, Пиписка!.. Ну как, журнал «Свиноводство» выписал?
– Не понял, Фил?
– Ну, когда поймешь – подгребай!..
На Другом конце стола Кислый, покачивающйся на задних ножках стула, орет. – Пиписка, бухнешь?
Колун кидает на него молчаливый взгляд.
– Завязал? – Кислый лыбится. – Ниче-е! Тяжело в леченьи, легко в гробу!..
– Поздно лечится, когда почки отвалились! – добавляют.
– Слышь, Фил, я в такую непонятку попал… Чуть тачку не отмели.
– А на какого ты в Уссурийск завернул?
– Да, карбюратор засрался…
– Карбер? И сигнала не подал? И фарами не мигнул? – Сережа весело оглядел стол.
– Да, карась там у него был! – орет Кислый. – Жирный, да? Хотел там тачку скинуть, да? А тебя там обули! Или чуть не обули!..
– Видел я твою тачану, – говорит Букса, разглядывающий кальмара на вилке. – Ну, и морда у нее!..
– Да, хоть с тачкой, козёл, остался!..
– И с башкой!..
– А на хер она ему!..
– И каково резюме? – спрашивает Фил, обнаруживая университетское
образование четырехлетней давности. Одной рукой он обнимает Наташу и смотрит на Пиписку.
– Чё? – не понимает колун.
– А резюме простое: на хитрую жопу есть хер с винтом!
– Да, в натуре, Фил, карбер!..
– Заткнись!
Пиписка замолкает.
– За ремонт тачки заплатить из своей доли. Сдашь ее и уё! Все – свободен! Потеряйся!
Пиписка понуро разворачивается и натыкается на двух подруг, которых откуда-то из толпы только что вытащил пьяный в дымину Паха. – А-а, Пиписка! С приездом! Никого не вылечил? А точила у тебя: полный вперед! И капот открывается? И колеса крутятся?.. 0-хе-реть!..
Одна из дам – на полголовы выше колуна – целует вышибленного в лоб. – Не знаю за что там тебя, но – прощай дорогой дрюг!
– И меня, – подставляет щеку Паха.
– А ты – пошел вон!
Паха не обижается и, покачиваясь вместе с подругами, напевает в спину удаляющегося Пиписки. – …Нас все меньше и меньше!..
– Что-то душно, – говорит Наташа, чувствующая легкую дурноту.
– Погоди, – не слушает Сережа и поднимается, приветственно махнув атлету, усаживающемуся через два стола от них.
Когда он возвращается, у сцены в медленном соло извивается Лариса – красивая блондинка с манерами избалованной принцессы, любительница крутых мальчиков. Она неотрывно смотрит на Сергея, томно закатывает глаза и облизывает якобы пересохшие от неутоленной страсти губы.
Наташа презрительно кривится и испытующе смотрит на друга. Сережа склоняется к Пахе, усевшемуся рядом, и что-то шепчет на ухо. Паха поднимается и вразвалочку подходит к солирующей девушке. Тоже шепчет на ухо. Танцовщица томно улыбается посланнику, поворачивается и продолжает вилять бедрам, но уже спиной к ним. Черная змея ревности мостится под Наташиным сердцем.
…Бегущие огни над сценой погасли. Музыканты сматывают шнуры. Кислый, приняв очередную дозу, решил качнуться на ножках стула и рухнул на спину. Братва обвально гогочет.
– Поехали, – говорит Сережа, допивший свой, традиционно единственный, бокал шампанского.
…Правой рукой он ведет машину, левой – гладит Наташино колено. Девушка кладёт свою ладонь сверху и спрашивает, змеясь улыбкой. – Лариса девочка ничего, да?
– Ты о чем?
– Не притворяйся! Она тебя соблазняла. И так откровенно-вульгарно.
– Это ее проблемы.
Он высвобождает руку для поворота.
– Вы мужики так слабы. Стоит вам подмигнуть и все: вы готовы.
– Я тебе дал повод так думать?
– А что же ей Пажа шептал? Аж эта селедка поплыла!
– Что цирк уехал, а клоуны остались! – огрызнулся Сережа,
– Так я и поверила!
– Слушай, ты не с той ноги встала? У тебя месячные? Я по тебе скучал, а ты мне концерты устраиваешь!..
Наташа смотрит на наплывающие репейники Фонарей и пытается подавить ревность. – Так. Легкая хандра.
– Сейчас приедем и будем лечить твою хандру. Уколы ставить. – Его ладонь опять на её колене. Слепящий взгляд раздевает.
– Смотри на дорогу, доктор!..
…Трехкомнатную квартиру Сережа купил два месяца назад. Вся обстановка – двуспальная румынская кровать, палас на полу, два кресла, японские телевизор и видак на подставке – уместились в просторном зале. Если не считать кухонного стола, газовой плиты, холодильника да штор, в квартире больше ничего нет.
Не включая света, он, прямо в прихожей, прижимает девушку к стене.
– Пусти, любитель танцующих селедок! – пытается отбиваться девушка, слегка запуская коготки в его бока.
– Моя кошка! Моя кошка с когтями!..
– Раскатал губу: твоя!..
Опустившись на колени, он закатывает до самого пупа ее платье и пытается спустить трусики. Наташа отталкивает его и бежит в зал, Сережа настигает ее и валит на кровать – распинает поперек на белых простынях.
– Ой! – вскрикивает Наташа, – Пусти! – он сделал больно ее головастику.
– Что «ой»? – глаза у Серёжи пьяные.
– Носорог! – Наташа давит в себе ярость самки, защищающей своего детёныша. Ее кулаки упираются в мускулистую грудь. – Пусти, я сказала! На Лариску свою будешь так запрыгивать!
На секунду Сережа замирает над ней. Потом чертыхается и садится на край кровати спиной к ней. – Тебя пре-ет сегодня!
– Какие мы обидчивые!
Согнув ногу в колене, она большим пальцем чертит его спину, пытаясь сгладить внезапную вспышку. – Какие мы нежные и тонкие, господа крутые ребята! – она ногами обвивает торс любовника и пытается повалить на бок. Сережа недвижим как скала. – Подумаешь! – Наташа размыкает кольцо, усаживается позади него, обнимает колени и кладёт на них подбородок. – Нечего было шептаться в кабаке! Сказал бы ясно и просто: Лариска, сучка, пошла вон!..
Сережа поворачивается. – Тебя заклинило на этой Лариске! Ты сегодня – настоящая стерва! Только не пойму: почему?
– Да? – Наташа отрывает подбородок от коленей, наклоняет голову и надменно прищуривается. – Ну, если я стерва, так какого фига, спрашивается, ты таскаешь меня сюда? Какого фига трахаешь и повизгиваешь от удовольствия? Нашел бы не стерву!.. Вон они в кабаке… милые и нежные… спектакли тебе бесплатные устраивают!..
Она соскальзывает с кровати. Сережа ловит ее за талию, пытается усадить на колени.
– Пошел ты! – отбивается Наташа. – Мудак!
– Успокойся, кошка бешеная!
Он, все-таки, усаживает ее на колени,
– Пусти! Мне больно! – тщетно пытается она вырываться.
– И не подумаю!
– Пусти! – Наташа начинает всхлипывать от бессилия.
– Наташа!
– Иди вон! – это уже сквозь слезы.
– Наташа, ну хорош! – он укладывает плачущую подругу на постель, сам лежится рядом и сжимает вздрагивающие плечи. – Все! Ну, все! Что за придурь из тебя сегодня прет не понимаю?
– Сам дурак! – сквозь слезы огрызается девушка. – Просто я… Просто у нас…
– Что «у нас»?
– Ничего.
– Говори.
– Потом.
Выплакавшись, она судорожно вздыхает, уголком простыни промокает глаза.
– Так что?
Наташа поворачивается к Сереже, утыкается в его грудь.
– Ну?
– Ничего.
– Ты хотела что-то сказать?
– Отстань! – она неожиданно сильно вжимается в него всем телом, – Потом.
Сереже становится не до вопросов.
…Когда он вошел в нее, ей показалось, что головастик недовольно шевельнулся. – Давай на боку…
Потом Сережа пил пиво из банки. Она, отказалась.
– Я в тебя кончил. Ты ничего не сказала, я подумал: можно.
Молчок. Сережа поставил банку рядом с кроватью, нащупал пульт
дистанционки.
– Теперь можно, – сказала она, – Теперь до-олго можно!
Сережа замер с нацеленной рукой. – То есть? Что за намеки?
– Я беременна, Сережа!
Радости на его лице не обнаружилось.
– Но ты же предохранялась?
– Предохранялась.
– Так что?
– Как ты испугался!
– Брось! – он отвернулся к окну. – Все это неожиданно. Не к месту и не ко времени.
– А с кем «к месту» и «ко времени»? Может с Лариской?
– Опять про это!
– Да, я про это!.. Предохранялась!.. Может, ты с презервативом не умеешь обращаться! Может в нем дыра была! Может я в сроках ошиблась, когда без резинки была! И мало ли что еще! Я – женщина, а не автомат! В общем, все: я – беременна, брюхата, с пузом!..
– Но срок же небольшой…
– Шесть недель. И что?
– Тогда все поправимо.
– Что поправимо?
– Что – аборт!
– Нет.
– Почему?
– Ни за что!
– Да, почему?
– Потому что это первая беременность!
– Ну, и что?
– Да, пошел ты!.. – Она отвернулась, потом села. – Потому что это первая беременность! А я хочу иметь детей! А не таскаться всю жизнь по курортам, да сохранениям, как мамина сестра!..
– Ты же хочешь стать певицей! Настоящей фирменной! А тут – ребенок! Хана всем планам!..
– Ох, как ты заговорил! А как высмеял меня, не помнишь уже? Когда я имела глупость поделиться с тобой своими планами. «Тараканы кабацкой певички!»…
Наташа сидела на краю кровати в позе андерсоновской русалочки.
– Вспомнил!.. Мои планы ее изменились. Просто я перестала говорить о них с тобой. Ребенок все усложнит – не отрицаю, но он – не помеха…
Сережа встал с кровати, положил пульт на телевизор и из пачки, лежавшей там же, извлек сигарету – традиционно единственную за день. Он курил и глядел в просвет полураздвинутых штор. Стройная фигура, которой не грозили никакие беременности, четким абрисом темнела на фоне окна, в небе, прямо над его головой, мерцала одинокая звезда.
– Все равно не ко времени! – сказал он упрямо.
– А любишь ли ты меня, Серёженька? – сказала Наташа и затаилась,
загадав на эту звезду.
– Любишь – не любишь! Это все слова! Я с тобой никогда не говорил об этом, но у меня есть вполне определенные материальные цели. И я хочу их достигнуть… И достигну! А сейчас я – нищий. Я не готов к семейной жизни. Я ее не хочу.
Звезда над его головой погасла.
– Вот видишь как все ясно. А я не готова делать аборты из-за твоей неготовности к семейной жизни и из-за твоей, так называемой нищеты. – Она почувствовала влекущую пустота краха и стала рубить канаты. – Ты сегодня слово одно умное говорил – резюме. Так каково оно – твое резюме?
– Аборт! – сказал он резко, словно пролаял, и повернулся, ища пепельницу. Вспомнив где, пошел на кухню.
Когда вернулся, девушка сидела на кровати и натягивала трусики.
– Наташа, давай без демонстраций! До утра еще далеко. Он стоял над ней с хрустальной пепельницей – трусил туда сигарету.
– О чем ты, Сережа? Перепихнуться на прощание? Для этого Ларисы! Только Ларисы!..
Натягивая через голову платье, она приказывала себе «Только не реветь!..»
В прихожей стала подкрашивать губы.
– Я – отвезу, – он вошел в прихожую в брюках, заправляя рубаху.
– Не стоит трудов, пупсик. На такси я пока зарабатываю.
– Ты подумай на досуге. Подумай. Не горячись.
– Единственное о чем я буду думать, это о том, как я тебя презираю, пупсик!..
Серёжа поиграл желваками, побарабанил пальцами о стенку. – Актриса ты! – сказал в уже закрывавшуюся дверь,
– А как же!..
…Голова и сердце были пусты.
Она брела вдоль длинно загибавшейся девятиэтажки до ближайшей арки, за которой шумел ночной проспект.
На обочине девушка стояла минут пять, не шевелясь, ужавшись плечами, и смотрела на себя как бы со стороны и с полным равнодушием слушала своего двойника, в голове которого крутилось хрустальное колесико с бесконечным рефреном: «Все кончено! Все кончено!».
… – Кто? – сказали из-за двери плаксиво.
– Я. Открой.
Щелкнул замок.
– С ума сошла! Два часа ночи!
– Ты ключ из замка не вынула.
– А-а, точно.
Заспанная Маринка, в длинной белой майке, поплелась в свою комнату досматривать черно-белые, как рояльная клавиатура, сны.
Прошлым летом они вместе поступали на фортепианное отделение Института искусств. Наташа недобрала баллов и подалась на заочку на дирижерско-хоровое отделение. Фанатка-Маринка поступила и теперь, ежевечерне, до десяти-одиннадцати, трахается с Шопенами-Шуманами, зарабатывая остеохондроз и неврастению. В спальне Наташа переоделась в халат, легла лицом к стене и уставилась в ковер на стене, думая о бальзаме, которым можно было бы залить болящую пустоту. Геометрический узор расплылся и обрел очертания тела, распростёртого на дороге. Девушка перевернулась на живот и уткнулась в подушку, пытаясь подавить отчаяние.
Нет такого бальзама!
Ее спина стала вздрагивать.
Лежа на животе, она рыдала; в голос и бормотала между захлебами. – Козлы! Мудаки! Гондоны! Сволочи! Твари! Падлы! Уроды! Блядюги!..
Марина, прилетевшая из смежной комнаты на звуки беды, сидела рядом, со стаканом воды наготове, гладила голову подруги и приговаривала, дожидаясь конца истерики. – Так их, Наташа, так!.. Члены им всем повырывать!..
…Она проснулась от жажды.
На востоке, между фиолетовыми облакам и горизонтом, оранжевела щель рассвета. Было так тихо, что она слышала ток крови в висках.
…Когда проснулась во второй раз, Маринка уже ушла.
Не было хлеба. Магазин – напротив. Она переходила улицу и чувствовала вращение земли. В сероватой мгле висел кровавый помидор солнца.
Сережа сидел в холодильнике, плавал в кастрюле с рассольником, бегал по краю ванной, прятался в столе, среди вилок-ложек.
Кое-как поев безвкусной пищи, она включила скрипичные концерты Баха и, закрыв глаза, унеслась в печально-сладкую высоту.
В ресторан пришла оцепенелая, сонливая.
– Что-то ты сегодня в миноре, – сказал Юрчише.
Пела механически, как шарманка, а голос был тусклым, слабым.
После работы опять рыдала – заполняла пустоты. Следующим вечером, перед работой, в дверь позвонили. То был Сережа. Наташа в квартиру его не пустила.
– Что, надумала? – спросил он. – Есть хороший врач.
– Уходи, – сказала Наташа. – Ты мне не нужен.
Вечером он заявился в ресторан, сидел с Лариской; склонившись, что-то шептал ей на ухо. Они смеялись.
«Ну, нет! Она не позволит себя топтать!».
Прервав пение, она спрыгнула со сцены и подошла к столу, где сидели эти. Влепив тарелку с салатом в Ларискину морду, она, как ни в чем не бывало, вернулась на сцену, и кивком приказала ошарашенным музыкантам начать песню с начала.
…Больше Наташа не плакала.
На следующий день, наплевав на все приметы, пошла по магазинам: покупала пелёнки, распашонки, одеяльца, шапочки, косынки, ленты, пустышки, бутылочки и мысленно примерялась к роли матери.
Голос опять стал сильным и красивым.
…Через два с половиной месяца, когда живот аккуратным мячиком стал выпирать из платьев, она взяла декретный отпуск и укатила домой, в маленький городок, в восьмидесяти километрах от прежней жизни.