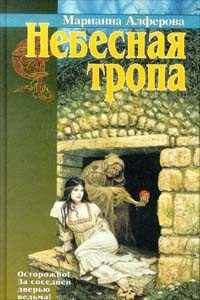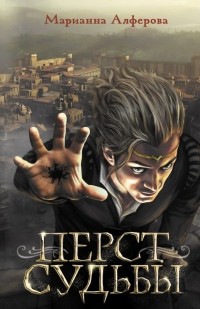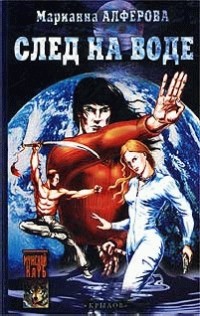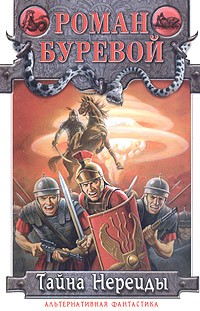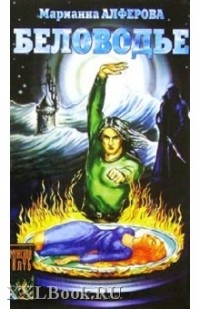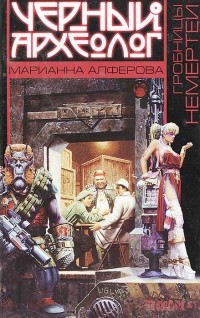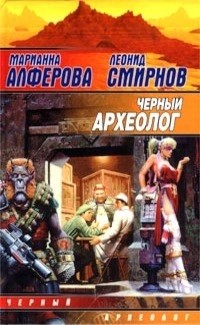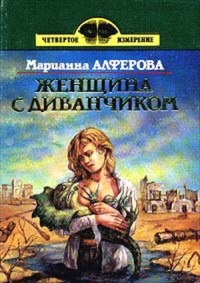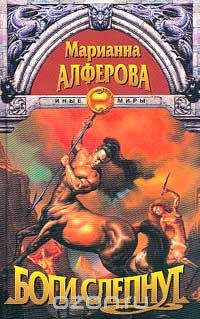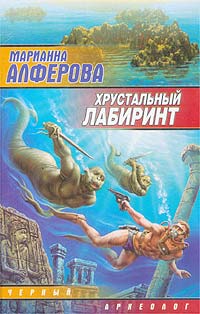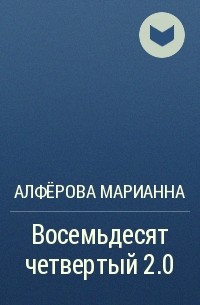Марианна Алфёрова — о писателе
- Родилась: 1956 г. , Ленинград
Биография — Марианна Алфёрова
Марианна Владимировна Алферова — писательница из Санкт-Петербурга.
Псевдонимы:
Роман Буревой
От автора:
Родилась и живу в Питере. Юность моя пришлась на семидесятые годы. Время проторенной колеи, в которой многим было уютно, но всем тошно. Технический вуз в семидесятые годы был чем-то вроде монастыря, в который уходили дети из бедных семей во времена средневековья. Любая гуманитарная профессия подразумевала необходимость служить идеологии. Можно чертить металлических монстров, их не любя, но сочинять, ненавидя то, что пишешь, не хотелось категорически. Потому и был выбран Политехнический институт. Закончила. Работала конструктором. Оказалось, что железных монстров создавать, не болея душой за…
свое дело, также невыносимо, как и писать то, что тебе противно. До сих периодически снится один и тот же кошмар: родное КБ, я приношу начальнику заявление об увольнении, а он говорит: “Пока не закончите сборочный чертеж, никуда не уйдете”. А я на этот чертеж смотреть не могу — тошнит. Просыпаюсь всегда с одной и той же мыслью: какое счастье, что это время ушло, и теперь уже только сон.
Пишу очень давно, еще в школе сочиняла — по рассказу в день, по роману за неделю — варианты на тему прочитанного. Исправляла то, что не нравилось. А мне всегда что-то не нравилось. Первый “свой” роман написан в 1984 году. Реалистический (или романтический, как посмотреть ). Две главы из него вошли потом в роман “След на воде”. Но что-то в реалистической прозе не нравилось. Не хватало изюминки. Обратилась к фантастике. Помнится, на одну из первых повестей из журнала “Химия и жизнь” получила отзыв примерно следующий: “Ваш рассказ... следовало бы отнести не к жанру научной фантастики, а к жанру сказки”. Неужели лит. консультант не знал, что существует такой жанр как “фэнтези”? И далее: “В рассказе слишком много приключений, кто-то куда-то бежит, кого-то вешают”... В прежние времена “много приключений” было недостатком. Впрочем, для литературных консультантов всегда найдутся недостатки в зависимости от пожеланий редактора. До перестройки посылать рассказы в журналы было делом безнадежным. Но я иногда посылала, чтобы убедиться в верности своих предположений. В начале перестройки попыталась опубликоваться за свой счет. И получила ответ из издательства: “Рукопись не соответствует требованиям, которые издательство предъявляет к произведениям, издаваемым за счет автора”. Ну надо же! А я думала, что в данном случае главное требование — это “бабки”, а не соответствие нормам соцреализма.
Поначалу мне в жизни дико не везло. Что ни задумаю — непременно сорвется. Хоть вообще ничего не делай. А потом жизнь переменилась. То есть обстановка в стране переменилась. С этого все и началось. Я и на себя стала смотреть иначе. Поняла, что человек я в принципе везучий, потому что есть любимое дело. Не каждому же так везет, многие жизнь проживут и не поймут, к чему лежит душа.
1987 года стала посещать семинар Бориса Стругацкого. В фэнзине “Измерение Ф” появилась моя повесть “Город, которого нет”. Повесть эта так и не была опубликована, да я теперь и не хочу ее публиковать. Однако этот номер фэнзина храню как очень дорогую реликвию.
Первая публикация в 1990 г — рассказ “Поглощение” в сборнике “Измерение Ф”. Первая книга — в 1991 году — сборник “Дар — Земле”. Особое спасибо Борису Завгороднему за эту публикацию — тогда, в сентябре 91 года, после поражения путча, казалось: ну вот, сейчас-то настоящая жизнь и начнется наконец.
Из журналов меня чаще всего публиковали в “МЕГе”. Была их постоянным автором. В первом номере “МЕГи” был мой рассказ “Идолы”, последний вышел с моим романом “Золотая гора” (правда, в сокращении) и с первым моим интервью. Так что с “МЕГой” я от первого номера до последнего. Если спрашивать: какую книгу больше всего люблю, отвечу, что каждая по-своему дорога. В каждой что-то удалось. Иначе бы не публиковала. Один из самых любимых романов — это “Золотая гора” (“Хроники Великих огородов”). Это абсурдисткая и одновременно четко сконструированная вещь.
Стараюсь работать в разных жанрах. Если “Золотая гора” — это роман-абсурд, то “Небесная тропа” — городская сказка. Классическая завязка: у бездетной старухи родился сын, который тут же оказался взрослым и начал совершать подвиги. Чтобы стать истинным героем и проникнуть в Тридесятое царство, ему придется пройти через смерть и воскрешение, приобрести волшебного помощника, отведать пищу мертвых. И при этом все происходит на улицах современного Петербурга, и волшебная переправа — это колоннада Исаакиевского собора, с которой надо прыгнуть, чтобы попасть в трамвай, который тебя доставит в твой собственный внутренний мир. Тот самый трамвай из стихотворения Гумилева. Первоначально роман так и назывался “Трамвай над городом”.
Особое место в моем творчестве занимает пятитомная альтернативная история “Мечта империи” (“Римские хроники”). Книги из этой серии — “Мечта империи”, “Тайна “Нереиды” и “Боги слепнут”, “Северная Пальмира” и “Все дороги ведут в Рим”. Эти Римские хроники — не чистая “альтернативка”, а некая конструкция (ну вот, опять этот термин, кульман проклятый так залез в подсознание, никуда от него не деться), которая опирается на два столпа; один из них римская история, другой — римская мифология. Некая арка, на опорах которой выстроен мир. Первый роман — “Мечта Империи”. Так в принципе можно назвать и весь сериал. Вообще-то это не отдельные романы, а один, только очень большой, объемом более ста листов, разбитый на пять частей. Если бы знала, сколько потребуется труда, знания истории, литературы, бытовых подробностей, поговорок, обычаев, никогда бы не взялась. Но теперь не могу бросить. Ушла в этот мир с головой. И теперь вновь и вновь возвращаюсь к Риму. Так в 2002 году вышла в свет моя научно-популярная книга “История Древнего Рима”. Каких-то исторических “открытий” я там, разумеется, не делаю, но попыталась рассказать доступным языком о Древнем Риме то, что мне показалось особенно интересным, подчеркнуть значение давних событий для нашей цивилизации
Книги
Смотреть 33Премии
Лауреат
2018 г. — Полдень (Повесть, Восемьдесят четвертый 2.0)2018 г. — Литературная премия имени Н. В. Гоголя (Вий, Восемьдесят четвертый 2.0)
2011 г. — Полдень (Критика, публицистика, Невеселые разговоры о невозможном)
2004 г. — Литературная премия имени Н. В. Гоголя (Вий, След на воде)
Номинант
2018 г. — АБС-премия (Художественное произведение, Восемьдесят четвертый 2.0)2018 г. — Интерпресскон (Крупная форма (роман), Восемьдесят четвертый 2.0)
2001 г. — Мечи (Меч в зеркале, Мечта империи)
1999 г. — Интерпресскон (Средняя форма (повесть), Золотая гора)
1999 г. — Бронзовая Улитка (Средняя форма, Золотая гора)
1995 г. — Бронзовая Улитка (Малая форма, Женщина с диванчиком)
1992 г. — Бронзовая Улитка (Крупная форма, Пейзаж с озером Нево)
1992 г. — Бронзовая Улитка (Малая форма, Идолы)
1990 г. — Великое Кольцо (Малая форма, Поглощение)
Ссылки
Рецензии
Смотреть 1117 февраля 2023 г. 19:11
506
3.5 Мрачно, атмосферно, философски, депрессивно
С безумием и отвагой продолжаю пожирать кактус серии «Дети великого шторма». Уже вторая книга – и снова совсем не моё. А я ведь уже присматриваюсь к третьей! Думаю, есть вероятность, что эти грабли меня рано или поздно контузят.
Марианна Алфёрова – матёрый автор. На обложке «Перста судьбы» её сравнивают с Сапковским, но давайте будем чесночно честными, пишет она куда лучше. Нет, Сапковский – прекрасный рассказчик, да, он создал крутую вселенную, да, я тоже балдею от Генри Кавилла в кожаных штанах, но беллетрист из него средний. Ну, правда. Ну, киньте в меня тапком, но я не передумаю. А вот Марианна Алфёрова – талант. Она пишет ярко, красочно, объёмно, харàктерно. Но, господи, какой же мрак, эти её истории!
Помните, я ругала «Убить некроманта» Макса Далина? Вот я бы не ругала, если бы ту…
9 февраля 2015 г. 20:24
414
3.5
Книге почти двадцать лет и атмосфера 90-х так и сочится со страниц. Кажется, у книг написанных тогда и у книг написанных позже о том периоде - совершенно разное дыхание. Мутный хаос реальности этого периода и правда хорошо сочетается с дореволюционным Санкт-Петербургом и с темным хтоническим ужасом блокады, автор словно сложила эти разрозненные пазлы и получила пусть условную, мозаичную, но все же вполне цельную картину.
Аннотация делает акцент на каких-то призраков и древние суеверия, но это абсолютно не верно. Фантастическая природа этой истории скорее близка к булгаковской. Впрочем, в этом и ее минус, но об этом позже.
Сначала о достоинствах. Это было увлекательно чтение. Особенно первая половина или даже две трети. Финал, по-моему, несколько провис. Это было про Питер. Пусть даже…