9 мая 2019 г., 20:21
20K
Возможно, Джеймс Болдуин чувствовал себя в Стамбуле как дома
Хилал Ислер об обретении дома, когда ты его не ищешь
Всю жизнь вам говорят, что то или иное место является вашим домом, но когда вы туда добираетесь-таки, понимаете, что вы не чувствуете себя настолько комфортно, как хотелось бы. В моем случае это произошло летом после того, как мне исполнилось восемь. Мы с мамой сели в самолет из Канады в Англию, наше первое путешествие в Европу. Мы остановились на ночь в отеле возле лондонского Гайд-парка: полы в лобби были из полированного дерева, на стене висело устрашающее чучело дикого кота.
Я никогда не бывала в таких отелях до этого. Мои родители — скромные иммигранты — обычно предпочитали заведения на обочине трассы, с деревянными панелями по стенам и окнами, выходящими на парковку. Я помню, как отличался отель с чучелом, помню, как возле лифта стояли свежие цветы, как мама заказала ужин с доставкой в номер. Настоящее разорение! Мой гамбургер скрывался под слоем фольги, и помню, я задумалась о том, что он был дороже Биг Мака в пять раз, но был ли он вкуснее в пять раз?
Когда уезжал из дома в Европу, он был сломлен. Это был День перемирия, 1948 год, когда он отплыл из Нью-Йорка в Париж с 40 долларами в кармане. Он сказал бы, что уехал не во Францию, а чтобы уехать из Нью-Йорка. Он уехал, потому что должен был.
«Я знал, что значит быть белым, и знал, что значит быть негром, — сказал он, — и я знал, что со мной будет. Удача отворачивалась от меня. Я отправился бы тюрьму, был бы убит, либо убил бы сам».
Его близкий друг Юджин Уорт, черный социалист, недавно покончил с собой, спрыгнув с моста Джорджа Вашингтона — смерть, которая опустошала Болдуина, преследуя его годами. По его словам, единственный способ, которым Болдуин верил, что сможет выжить, — это оставить Америку позади, и поэтому он отправился во Францию и 13 лет спустя — в Стамбул.
В то время он пытался писать свой третий роман «Другая страна» , но все шло не так. «Писательский блок», — говорил он друзьям. Энгин Сеззар, турецкий актер, с которым Болдуин познакомился и подружился в Нью-Йорке, однажды предложил ему остановиться в Стамбуле. «Если когда-нибудь окажешься в городе», — сказал он. Поэтому, однажды, в октябре 1961 года Болдуин появился без предупреждения у дверей скромной квартиры на площади Таксим. У Сеззара была вечеринка, и он с удивлением обнаружил Болдуина, стоящего на входном коврике, держа в руках потрепанный чемодан. Глаза у него были уставшие, лицо осунувшееся. «Добро пожаловать домой, Джимми», — вспоминает Сеззар. Он рассказал гостям, что Болдуин был важным романистом из Америки, что подняло большой интерес вокруг его персоны. Болдуин вошел внутрь, принял ванну и в конце концов уснул на коленях одной из актрис.
По словам Сеззара, по приезду, Болдуин был болен, находился в глубоком кризисе и на грани потери рассудка. В чемодане у него была проблемная рукопись. К тому времени он уже много лет писал «Другую страну», и неспособность закончить ее давила на него, угнетая и навевая мысли о самоубийстве.
Но прибыв в Стамбул, Болдуин начал приходить в себя. Он поселился у Сеззара, где его накормили, приодели, выделили ему комнату. Он снова начал писать. В течение нескольких месяцев он полностью переработал книгу, дописав ее, доработав и выпустив роман, который был амбициозным, экспериментальным, получившим признание критиков. Хит продаж. Права на фильм были приобретены британской продюсерской компанией два года спустя.
Перед тем как мы уехали из Лондона в Стамбул тем летом, мы с мамой посетили Букингемский дворец. Это был день рождения королевы-матери, поэтому мы стояли на тротуаре, ожидая, когда она выйдет на балкон, что она и сделала, махнув рукой.
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, королева!» — крикнула я ей, пока не начался дождь, и мы не ушли. В аэропорту я потратила часть своих карманных денег на покупку магнита на холодильник с ее лицом.
В то лето мой магнит стал вещью, помогавшей мне налаживать отношения с кузинами и кузенами — множеством молодых людей, с которыми, как мне говорили, мы были связаны родством. «Я видела королеву», — говорила я, гордо показывая свой магнитик. Это продолжалось до тех пор, пока однажды мой старший кузен, Селим, не выбросил его на проезжую часть через окно. «Весь смысл того, что ты турчанка, — сказал Селим, — это не быть покоренной чужеземными колонизаторами, не выказывать интереса к ним посредством имперских магнитов».
Я выслушала торжественную проповедь Селима, посмотрела на свой заветный магнит, лежащий на улице, и подумала: «Извините, я не смогла вас спасти, королева». Я грустно смотрела, как желтое такси раздавило милое, пластиковое личико королевы.
Когда его спрашивали, почему он приехал в Стамбул, Болдуин ссылался на то, что город был местом его исцеления. Будучи серединой между Востоком и Западом, город позволял ему хотя бы на некоторое время сбросить бремя различных личностей, отведенных ему окружением; тоже жить посередине, стараться быть человеком. В Стамбуле, по его словам, он мог начать все заново.
Десяток лет в Турции совпал с серединой карьеры Болдуина не только хронологически, но и тематически: в те годы он достиг значительного художественного роста. Именно в Стамбуле Болдуин написал свои самые американские произведения, включающие «Другую страну» , «Огонь в следующий раз» ( «The Fire Next Time» ) и «Безымянный на улице» (No Name in the Street). Он говорил друзьям, что Турция «спасла» его жизнь. Даже заговаривал о покупке недвижимости в Стамбуле, чтобы остаться навсегда.
Когда он в конце концов переехал из квартиры Сеззара, Болдуин арендовал свое собственное местечко: красный дом с видом на Босфор, который когда-то принадлежал паше. Болдуин влился в жизнь окрестностей, стал постоянным посетителем бара Divan Hotel, подружился с местными активистами и интеллектуалами, организовывал постановки для общественного театра. Его постановка «Удача и мужской взгляд» («Fortune and Men's Eyes») — пьеса о геях в тюрьме, раскрывающая тему их сексуальной жизни, открыла новые возможности для турецкого театра, в котором игнорировались откровенные исследования сексуальности.
Болдуин часто устраивал встречи и вечеринки дома, афро-американские художники и прочие посещали его в обязательном порядке. И, когда Марлон Брандо приехал в середине 1966-го, Болдуин организовал все так, чтобы тот разъезжал по городу в маленькой машине Сеззара, в то время как лимузин, как приманка, отвлекал внимание турецких фанатов, собиравшихся на улицах. С тех пор осталась фотография Брандо и Болдуина, сидящих напротив друг друга за столом в ресторане Urcan, любимом прибежище Болдуина, которое вы до сих пор можете найти в Бейоглу.
Болдуин говорил о позитивной «энергии», которую он чувствовал в Турции, и было высказано предположение, что это было одним из факторов его пребывания: потому что «быть геем в Стамбуле легче, чем в Америке, легче быть черным», — пишет Сьюзи Хансен для Public Books. Здесь мужчины могли держаться за руки, целовать друг друга на публике, и это могло или не могло означать, что они были геями. Здесь люди могут быть физически белыми, но они не считаются белыми культурно и политически, по крайней мере не Западом. В этом смысле Стамбул дал Болдуину возможность и пространство, чтобы пересмотреть свои мысли о расе и гендере, расширить колониалистическое и американское бинарное понимание таких вещей, позволяя выявить различные истины. помогая ему представить новые, более полные личности для себя и других.
После эпизода с Селимом я не рискнула выйти на улицу и спасти останки королевы-матери. Я придержала язык и последовала за Селимом и остальными по переполненным тротуарам Таксима. «Мы собираемся показать тебе, что такое настоящий турок», — сказал мне Селим, и я подумала: «Я готова».
Иногда наша личность формируется, когда мы находимся на улице с кем-то, в общественных местах, переживаем моменты, будучи окруженными людьми. Иногда эти идентичности приобретают смысл и просачиваются через семью, которая требует от нас, настаивает на том, каков должен быть наш язык, наш Бог, на что мы должны вымещать свой гнев, во что верить. Вот что мы делаем с желанием.
Тем летом рядом с моими кузинами и кузенами я научилась смотреть на эту страну их глазами, мне было интересно ее изучать, но я также чувствовала себя отдаленной — каким-то образом оторванной от того, что должно было быть моей культурой, от того, что они говорили мне, был мой истинный дом.
Я снова посетила Турцию только через пять лет, будучи подростком, испытывавшим некий культурный когнитивный диссонанс. Я не чувствовала никакой сильной тяги, какой-либо длительной привязанности к Турции, но к тому времени и Канада была для меня потеряна. Ценой, которую я заплатила за расширение горизонтов, было подорванное чувство верности. В Калгари, когда мы учились петь «Боже, храни королеву» — кивок в сторону Содружества (объединяет Великобританию и её бывшие доминионы и колонии, ныне независимые государства — прим. пер.) — слова не укладывались во рту, поэтому, под влиянием учений Селима, чувствуя себя самозванкой, я просто прожевывала их. Я была одинока в этом. Я еще не поняла, что не была одна. Я еще не понимала, каково это, расти посередине.
Однажды, когда друг позвал Джеймса Болдуина вернуться в Америку или, по крайней мере, основаться где-то на постоянной основе, Болдуин сказал ему, что не может осесть ни в одном месте, потому что на самом деле нигде себя не видит. «Место, в которое я вписываюсь, не будет существовать, пока я его не создам», — сказал он, и мне интересно, верно ли это и для других. Для тех из нас, кто мечется между странами, между домами. Тех из нас, кто наращивает личности, как кожу, только чтобы сбросить ее и раскрыться по-новому. Тех из нас, кто несет чувство принадлежности чему-либо, как черепахи носят свои панцири. Мы заявляемся ночью, без предупреждения, с видавшим виды чемоданом в руках. Мы перевозим наши вещи в клетушку в пригороде Калгари или в скромную квартиру 1950-х годов в Гарлеме, и в обоих случаях можем или не можем чувствовать себя как дома. Это зависит от нас самих: от того, насколько мы позволяем себе привязываться, осесть, а также от того, насколько другие люди позволяют нам делать эти вещи.
На самом деле, как писал Джеймс Болдуин в «Комнате Джованни» , дом — это не физическое пространство, а безвозвратное состояние. В письме 1957 года другу со школы Болдуин настаивал на том, что необходимо «выкинуть из головы» идею о том, что есть какое-то место, где он мог бы вписаться, если бы «по-настоящему примирился» с собой. Такого места не существовало. Может быть, он не мог достичь такого покоя или, это чувство было мимолетным, ненадежным, неустойчивым.
Болдуин писал, что внутренняя и внешняя среда человека — это одно и то же, и те из нас, кто находится посередине, могут понять эту истину. Те из нас, кто не привязан к какому-то конкретному месту, к какому-то участку земли, понимают черепах. Для нас дом — это внутреннее состояние, реальность, которую мы не просто создаем однажды, но создаем каждый день. Мы понимаем, что дом — это место, которое мы творим, и это формирует нас снова, и снова, и снова.










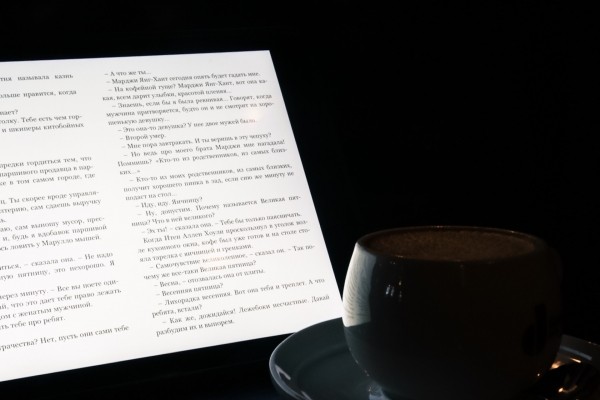



Спасибо, но
я бы поправила на "школьному другу" )