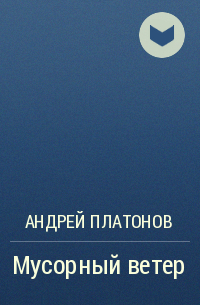Больше рецензий
5 января 2024 г. 09:07
12K
5 Звёздный ветер (рецензия Adagio)
РецензияС чего начать рецензию в день памяти Андрея Платонова?
Как-нибудь нестандартно, как на картине испанского художника начала 20-го века, Алехандро Непосьедос: большое полотно, сплошь состоящее из звёздной ночи. Зритель поначалу не понимает что происходит и думает, что это космос, или автопортрет души, и многие люди отходили от картины и так и не видели, как в уголке, нарисована птичка, которую словно бы закрутило в метели и уносит бог знает куда: одни птицы летят на юг, а она сразу — в рай.
С этого композиционного приёма я и хочу начать рецензию. Странную, грустную.
Я люблю ставить эксперименты над собой.
Летом, люблю затеряться в поле, вдали от города.
В поле затеряться сложно, но у меня получается.
У меня получается даже потеряться глазами — в небесах: если долго-долго смотришь в небо и думаешь о любимой, да ещё с бутылочкой красного вина (чего уж скрывать: я в поле ухожу с бутылочкой вина, может потому и теряюсь), то в какой-то миг кажется, что земли — нет, а есть лишь бескрайнее, как океан, небо: бескрайняя планета-океан, населённая одними птицами, шелестом листвы и ветром в облаках. Планета-рай..
Страшно перевести взгляд на землю и увидеть вдалеке — город.
Кто его построил в раю? Зачем? Он всё испортит..
В поле я люблю лечь в цветы, в доверчиво накренившуюся, солнечную прохладу высокой травы, и представить — что я умер: сквозь мою грудь, запястья и пальцы, ласково растут голубые и карие цветы..
Бутылочка вина в траве рядом со мной.. словно захмелевший ангел.
На моей груди — светится телефон. Словно светится моё обнажённое сердце.
Я включаю голоса птиц. Нездешних, африканских, индийских.
Для птиц моего грустного края, это словно нежное воспоминание об их путешествиях на край света.
Милые.. им кажется, что их друзья прилетели в Россию! Островок Индии, в глубинке России..
А тем птицам, «невыездным», как воробьи, кажется это чем-то райски прекрасным и новым, как песня ангелов.
Быть может так смотрели на книги Платонова некоторые его современники? Неземная нежность и грусть..
Моя грудь светится и поёт голосами нездешних птиц, и над обнажённым сердцем моим, словно над фонарём где-то в вечерней Калькутте, кружат птицы, словно огромные карие бабочки, и мысли о любимой моей.
Иногда, в мою светящуюся грудь и цветы, заглядывает навеки удивлённое и улыбающееся лицо грибника..
Не так давно я шёл, хромая, по заснеженному переулочку с томиком Платонова, и улыбался как в детстве: вечером было много звёзд, а утром — много снега на земле и деревьях, и мне казалось, что это выпали звёзды.
Дома, деревья, улицы, города.. мир, занесён звёздами.
Мне было грустно. Вокруг — ни души. А это всегда искушает.
Оглянулся с улыбкой, и упал спиной в снег и сделал «ангела».
Положил синий томик Платонова в снег, с левой стороны, и раскрыл его: распахнутые в стороны, белые страницы, были похожи на руки. Казалось, Платонов вместе со мной делает ангела.
И вот мы лежим с ним в снегу, грустные, улыбающиеся и чуточку пьяные, и смотрим на голубое, высокое небо князя Болконского, и над нами летают прекрасные птицы, и с карих веточек, мурашками счастья, слетает лёгкий снежок от взлетевших птиц.
Снег тихо звездится в голубом воздухе, касается моего лба, вздрагивающих ресниц и голубоглазого томика Платонова.
Я целую снег, закрывая глаза..
Ветерок, словно ласковая дворняжка, тёплым холодком облизнул мне пальцы на левой руке и щёку мою. Милый..
Мне на миг показалось, что вся эта бесприютная красота надо мной, слетелась к грустному пению книги Платонова.
Я оглянулся на Андрея, робко коснулся его и заплакал.
Так беспричинно одиноко стало на сердце без любимой в этом грустном мире, словно тихо настал конец света, как пятое время года.
А может так и выглядит конец света?
Любимой со мной нет. Людей больше нет.
Я и Платонов лежим в снегу и делаем «ангелов», и ждём ангелов с далёких звёзд, как бы подавая сигналы им: мы здесь! мы ещё живы! Милые ангелы.. не прилетайте сюда, на эту безумную землю! Здесь ад!
Здесь распинаются боги и в муках умирает природа и мучается в любви человек!
Синий томик Платонова на белом снегу и правда бы чудесно смотрелся в конце света.
Лежит ли этот томик в траве, возле руин Эрмитажа, заросшего цветами и ветром, или в вечернем снегу, возле погасшего и словно бы молящегося фонаря, закрывшего ладонями свой сияющий лик.
А вокруг.. ни души, лишь ангелы, светло и тихо реют вокруг, как ласточки на заре, и веет ветер, как в поэме Блока:
Чёрный вечер,
Белый снег,
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всём божьем свете!
Платонов написал один из самых мрачных рассказов 20-го века — Мусорный ветер.
Рассказ–апокалипсис.
В конце времён, обгоревший томик Платонова, будет лежать где-нибудь на тлеющих руинах мира и голубоглазый ветерок, словно сошедший с ума ангел, набредёт на него, припадёт на колени и станет лизать его лицо. Смуглые страницы будут перелистываться сами собой, как сон и видение.
Мне иногда кажется, что некоторые произведения Платонова описывают то иррациональное, квантовое состояние и бред уставшего вещества мира, которое будет после того, как наступит конец света и души отправятся в рай, с грустной грацией перелётных птиц, покидающих охваченную пламенем последней осени, безумную землю.
Там, на «югах» рая, будет всё чудесно, сыто и светло.
А что будет с покинутой землёй?
С милыми, измученными зверями, природой, которым не досталось «билета в рай»?
Земля превратится в 4 день творения, только какой-то жуткий, словно ему снится кошмар и он ворочается во сне и что-то шепчет.
Читая Платонова, ловишь себя на мысли, что сердце вспоминает какую-то райскую синестезию, как если бы ты шёл по вечернему полю и кончики твоих пальцев вдруг блаженно прозрели и мир сладостно-жутко накренился: ты видишь и ощущаешь прохладную мягкость касания цветов у лица ладони, щурящейся, как ребёнок, который не лёг спать, как положено, а идёт куда-то вечером с мамой, и весь мир для него — чудо божье.
Когда Платонов в 1934 г. послал рукопись рассказа «Мусорный ветер» Горькому, тот ответил:
рассказ ваш я прочитал и он ошеломил меня.
Пишете вы ярко, но содержание у вас граничит с мрачным бредом.
Я думаю, что рассказ ваш едва ли может быть напечатан где-либо.
Сожалею, что не могу сказать ничего иного и продолжаю ждать от вас произведения более достойного вашего таланта.
Что тут сказать. Горький расписался в своей пошлости и словно посмотрел на Платонов снизу вверх, как какой-нибудь мелкий чиновник-призрак из романа Кафки, казнящий красоту без суда.
У меня есть маленькая мечта: умереть.
Но не просто умереть, а пронести в рай, под полой, под крылом, контрабандой, томик Платонова (в идеале, хорошо бы туда пронести томики Цветаевой, Набокова, Мисимы), потому что в раю нет страданий и томления нежности: ах, в рай я шёл бы пешком, по синему воздуху, с чемоданами..
Иногда мне снятся такие сны.. в которых я развращаю ангелов.
В раю дует осенний, платоновский ветерок и облетает листва и я просыпаюсь в одинокой постели, в которой нет моего смуглого ангела, и я понимаю со слезами на дрожащих ресницах, что я не в раю и никогда уже не буду в раю. Что рай утрачен навсегда.
Как в рассказе Платонова.
В свои снах, я подзываю к себе крылатого Пушкина и, с улыбкой, грацией эксгибициониста, раскрывающего плащик,
распахиваю крыло и показываю лазурный томик Платонова.
Боже мой! Многое бы я отдал, чтобы посмотреть, как Пушкин читает Платонова!
Ах, славно было бы в раю устроить кинотеатр и посмотреть с Пушкиным, Достоевским, Цветаевой: фильмы Бергмана..
Как воспринял бы это Пушкин?
Поднёс сверкающую и лёгкую лазурь крыльев к лицу и тихо заплакал..
Это удивительно, но в Платонове словно бы состоялась встреча Пушкина и Лермонтова.
В творчестве Платонова, словно бы даже днём, светят звёзды, и луна, словно солнце бессонных, освещает загрустившие пейзажи земли.
Мусорный ветер — это апокалиптическое переосмысление «Медного всадника» Пушкина.
Рассказ написан в 1933 г., на волне прихода к власти — Гитлера.
Рассказ вовсе не антифашистский. Это частности. И не антитоталитарный: это к узкоспециальным и местечковым писателям: Хаксли, Оруэллу.
Рассказ Платонова много шире и глубже: он о тоталитарности самой жизни.
Декорации рушащегося мира вроде бы просты: Германия 30-х.
Голод, страх, идиотический энтузиазм славословия власти.
На площади возводится бронзовый памятник Гитлеру — бюст. Половина человека. Получеловек. Кентавр пустоты и ужаса, человек, растущий из пустоты, в пустоту и мрак.
Люди поклоняются пустоте и половинчатой человечности: месяц человечности.
Это только выглядит нелепо и кошмарно: поклоняться бюсту тирана. А если это не бюст? Если человек поклоняется с таким же идиотическим энтузиазмом, другому чудовищу, на уровне чувств, смыслов, цивилизационного выбора, как сейчас принято говорить? Главное, чтобы сердце было в тёплом жирке, а там хоть весь мир пускай горит огнём: современная демократия.Современный экзистенциальный образ человечности, опирающейся не на гуманизм, бога и любовь, а на обнажённый, демонический ужас слепого преклонения перед наукой и цивилизацией, с её идеалами машин и сердца, впавшего в летаргический сон.
В этом плане у Платонова изумительная символика птиц в рассказе, как стремления к небесам, как адова символика: свастика — как следы птичек на земле. И райская — образ женщины-ангела, пленённого.
Аллюзия на Пушкинский Медный всадник — прозрачна.
Вместо наводнения — городок накрывают коричневые воды смерти и ужаса.
Словно люди, в поисках счастья и истины, «бурили» душу свою, и добурились до какой-о мрачной нефти души, до перегноя умерших миллиарды лет назад, в Эдеме, таинственных существ.
И вся эта зараза стала охватывать городок и души и тела людей, изменяя их как в кошмаре.
Платонов словно бы «снял» рассказ по сну Раскольникова о трихинах.
Вместо Евгения, маленького человека из поэмы Пушкина, сходящего с ума и потрясающего кулачком своим пред статуей Петра — немецкий физик, чья крылатая душа рвётся к звёздам и открывает тайны космоса, но на земле его книги сжигаются, предвосхищая мысль Гейне ещё в 19 веке: где горят книги, там вскоре будут сжигать людей.
Я не понимаю что стало с людьми в 21 веке. На наших глазах горят целые страны. Но люди думают, что людей то никто не сжигает. Значит можно спать дальше.
Сжигается вечные понятия: бог, любовь, честь, мужчина и женщина, мама и папа, совесть.. но людей то никто не сжигает? Можно спать дальше..
Душу этого человека, рвущегося к небесам — ожидает крестный путь, какой ещё не видел мир: в смерти на кресте, есть своя грация и стиль: руки раскрыты словно бы для объятия всего мира.
У Платонова — совсем, совсем иначе: мрачнейший апокриф смерти бога и человечности на земле.
Тотальное расчеловечивание, разбожествление человека, природы: фактически, Платонов впервые показывает распятие, не в образе бога на кресте, а в образе природы, человека и бога, слитых в нечто единое, поруганное и изувеченное до предела.
Пейзаж начала рассказа, напоминает апокрифическую фреску из «Превращения» Кафки и поэмы Блока — 12 (Христа, в венчике из роз, убивают из ружей на площади), и картины Гольбейна — Мёртвый Христос, которая так ужасала Достоевского. Он писал, что из-за этой картины можно потерять веру.
Хорошо, что Достоевский не читал Платонова..
На самом деле это ужасно, что Достоевский не читал Платонова. И даже дело не в том, что он умер до рождения Платонова. Оба — равнозначно гениальны.
В начале рассказа мы видим пробуждение человека, бессмертной души, в сумеречном склепе своей квартиры.
Фактически — воскресение из мёртвых.
Свет, словно уставший и раненый ангел, робко проникает в окно.. как бы боясь сказать Христу, что он пролежал в склепе не 3 дня, а — века, века, и за окном — полыхает безумный мир, фашизм и вечные войны.
Платонов экзистенциально углубляет кошмар «воскресения» — сексуальным насилием. Фактически от сексуального насилия пробуждается человек. Но пол человека, как бы закрыл глаза и ослеп (тема секса в рассказе — сквозная), и та женщина, что жаждет любви, по-человечески жаждет, от недостатка любви превратилась в животное, в поруганную и бескрылую молитву, как бы заросшую травой и печалью.
В отличие от повести Кафки, у Платонова, превращение свершатся не с отдельным человеком, а со всем миром.
Сквозь само уставшее и бредящее вещество мира, сквозь души и плоть людей, словно бы стал пробиваться тёмный свет, люди и жизнь, стали зарастать шерстью и ветром, словно жизнь стала полупрозрачна и 4-й день творения, как солнце бессонных, стал медленно приближаться к земле, и пейзажи природы, пейзажи поступков и мысли людей, из тела, стали зарастать адом.
При чтении Платонова, как и при восприятии музыки Дебюсси или картин Мунка, нужна особая оптика.
Есть авторы, которых сразу понимаешь, как ребёнок, язык матери, толком не зная ещё языка.
Это солнечные авторы. Солнечное творчество.
А есть лунное творчество: нужен навык и некое сотворчество, я бы даже сказал — читательский лунатизм, как при чтении поздней Цветаевой, Перси Шелли, Набокова, Саши Соколова.
В творчестве Платонова, вещество жизни словно бы вылеплено (не сплетено или нарисовано, как у других писателей) из таинственного и сверкающего вещества, равно зачерпнутого из девственного мира при его сотворении, пронизанного светом ангелов и счастливого бога, ещё до сотворения человека, и безумно уставшего вещества в конце времён, когда человечество умирает вместе с богом и сквозь истончившуюся кожу жизни, проступают не рёбра, а полыхающий космос, ад и рай, одновременно.
В этом плане, космизм Платонова похож на некоторые работы Павла Челищева (Набокова от живописи), но я бы сравнил его ещё с картинами Павла Филонова.
В апокалиптическом комизме Платонова, обнажённое сердце бьётся как бы в начальной тьме и пустоте мира, почти отдельно от человека, как сон или бесприютный ангел-калека, ковыляющий за человеком, на которого он со стыдом оглядывается.
Истомлённая и бредящая плоть человека и само ещё существование, становятся тускло-прозрачными, как в конце света, или как у первых людей в Эдеме.
Но если у первых людей были блаженно видны мысли, мечты о звёздах, то в космизме Платонова, видно словно бы роение «трихин» в душе человека (тех самых, из сна Раскольникова), роение низкой жизнедеятельности человека, как бы отпавшего от бога: внутренности человека и его жизнедеятельность и мысли — стали печальной фауной ада, берегов Стикса.
Платонов создаёт свою матрицу, которой ужаснулись бы сёстро-братья Вачовски.
В этом «подлинном» и падшем мире, где люди заигрались в богов, соки человечества, души людей, трепетные сны — текут по венам-проводам, люди становятся частью машин, живя примитивными инстинктами, которыми их питают машины.
В людях начинает стираться даже пол, мужское и женское, как робкое слово — люблю, на школьной доске, и это принимается с идиотическим энтузиазмом восторга (впрочем, как и сейчас).
Пол, становятся таким же рудиментом ненужным, как душа, совесть, вдохновение, вера в бога.
Ещё Достоевский писал в Карамазовых, что для иных — сапоги, важнее и полезнее Пушкина.
Сейчас это особенно актуально, когда не то что люди, а целые страны, готовы предать своё прошлое, совесть и бога, ради сытого и примитивного, демократического счастья и удобных, стильных сапожек: Платонов — пророк, не меньше чем Достоевский. Для него, в прогрессе и чудесах цивилизации, на которых по детски падка душа, словно бы заложен природный демонизм, и если ему человек не противопоставляет свой высший порыв к добру, то этот демонизм как бы захватывает человека, цивилизацию, и становится тёмным и тоталитарным.
Платонов в рассказе описывает человеческое тело, как последний пейзаж в конце времён, как комнату-ад, в которой укрылась душа, словно гонимая христианка.
И в этой мрачной комнатке тела, осязаний, словно бы гаснет свет, тот тут, то там, и ночь обнимает мир и душа дрожит где-то в груди или в пещере черепа.
И вот в этой «пещере», с акустикой ада и падающих звёзд, наш герой, ведёт диалог, им толком не понятно с кем — не то с бюстом Гитлера, не то с богом, не то с космосом и собой: сам себе гробовщик из Гамлета, держащий в дрожащих и исхудавших до костей руках — свой же, ещё покрытый тонкой и бледной кожей (больше похожей на мгновенный и робкий отсвет звёзд), череп.
Я специально подсветил этот гамлетовский образ в рассказе, потому как без навыка чтения Платонова, без лунатизма прочтения, он попросту не считывается и текст Платонова предстаёт обычной драмой, а не мерцает в 4-м и 6-м измерениях.
Когда Декарту запретили действовать, он от испуга стал мыслить и в ужасе признал себя существующим, то есть опять действующим. Я тоже думаю и существую. А если я живу, — значит, тебе не быть! Ты не существуешь!» — Декарт дурак! — сказал вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей блуждающей мысли: что мыслит, то существовать не может, моя мысль — это запрещенная жизнь, и я скоро умру…
Т.е. ставится вопрос, похлеще гамлетовского: быть или не быть.
В сравнении с вопросом Платонова, это детский вопрос, похожий на совершенно детский вопрос человека средних веков, который стоял на берегу океана и думал: а есть ли на той стороне что-то ещё? Другие земли, люди?
Вопрос существования души после смерти, Платонов экзистенциально переносит с потустороннего мира, на посюсторонний, и приходит к ужасной мысли: жизнь — Здесь, более невозможна и безумна, чем жизнь — Там.
Всё переворачивается с ног на голову, словно нас обманули и мы уже умерли и живём в аду, кое-где заросшем от скуки, травой и цветами.
А жизнь души, любовь, в мире — где есть Гитлеры (страшен не сам Гитлер, а сладострастная и радостная возможность его существования в мире: Гитлер — лишь винтик), где сама жизнь, её безумные законы, которым многие присягают в верности с энтузиазмом идиотов, называя это естественным, нормой и природным — невозможна: одно отрицает другое и душа томится по чему-то звёздному, божественному, как гг рассказа.
Может прав был Джордано Бруно, писавший, что не душа находится в теле, а — тело, в душе?
Правда, по Платонову, как мне кажется, тело — в душе, находится у тех, кто не присягнул к больной норме жизни и природному порядку вещей (вроде очевидная истина, но почему-то к ней многие или не приходят совсем, или через муку: всем понятно, что естественно, когда животные кушают животных, а человек кушает животных. Но что-то в человеке понимает, что с миром что-то не так, он болен, и по разному пытается искупить это: кто-то становится вегетарианцем, кто-то бросается в творчество, кто-то.. кончает с собой. Это же одна спираль безумной нормы, где все пожирают друг друга, в тоталитарном ли смысле, в человеческом, животном..), и потому душа у них — бескожая и её ранит всё в этом мире, даже красота мира.
В пронзительном рассказе Платонова «Девушка-Роза», о русской пленной в немецком концлагере, на стене сожжённой тюрьмы, есть слова, перекликающиеся с выделенной мной цитатой Платонова.
Мне хочется остаться жить. Жизнь — это рай, а жить нельзя, я умру! Я Роза.
«Мусорный ветер» похож на жуткий апокриф распятия в конце мира, где всё смешалось, словно мрачно обрушились стены между Днями творения и даже сном бога, отдыхающего от «дел» и ему снится кошмар и он что-то шепчет в бреду.
Ангелы идут по тлеющим руинам мира, но вместо белоснежных крыльев за плечами — гробы.
Колыбель, качающаяся над бездной: мать укачивает двух умерших детей: любовь и жизнь.
В могиле спят, обнявшись, мужчина и женщина: тоже, по сути — любовь и жизнь.
Колыбель, утроба и гроб — стали единым целым, словно выровнялось давление жизни и ада: словно мир ещё и не начинался. Или уже давно кончился, а люди и не заметили этого.
Совершенно апокалиптический и пронзительный образ Платонова, который мог стать самым мрачным иконописцем в истории: образ Христа, остановивший вечный ужас безумной матери, остановив её руку на раскачивающейся над пустотой, колыбелью: и времени больше не стало..
Далее, Платонов описывает совершенно безумное причастие человечества, быть может единственно разумное, для него, потерявшего образ и подобие бога: Христос, буквально, заживо, даёт свою плоть и кровь, на съедение.
В некоторой мере, Платонов описывает предсказание Достоевского, об антропофагии: о пожирании людьми, людей, не понимающих даже этого.
Люди и правда наивны, как дети: мы видим, как едят плоть, и ужасаемся, но не видим, стараемся изо всех сил не видеть, как пожираются и распинаются души, красота, истина.
Так, грустный ветерок подует порой, коснётся сердца и мы обернёмся, задумаемся на миг.
О чём? Каждый о своём. О женщине, например. Куда же без женщины. Я о смуглом ангеле своём задумаюсь..
В мире Платонова, женщина — это Беатриче в аду.
В ней одной, надежда на то, что в мире однажды подует ласковый ветерок и цветы яблони распустятся словно сами собой, от счастья.
Женщина, с крылатой грацией. Женщина-птица, в рассказе Платонова: женщина может и спасти этот безумный мир, и окончательно погрузить его в мрак.
Всё как в любви..
Как же без любви у Платонова?
Это прозвучит странно, но Платонов для меня — главный русский романтик, а вовсе не Лермонтов, Пушкин, Тургенев.
Романтика вовсе не в прелестном свидании возле сирени ночью, не в томлении по любимому человеку возле окна, на подоконнике, не в признании в любви на воздушном шаре: это всё так естественно и мило… как улыбка, как чихание любимого человека, или просто возможность посмотреть, как любимый кушает или спит.
У Платонова в рассказе есть вечный символ неразделённой любви, достойный быть гербом на щите рыцаря любви.
Любви в рассказе нет, словно времени и места нет для любви в этом безумном мире, но есть пронзительная мимолётная мечта о любви: раскапывают могилу в конце времён, а в ней лежат кости мужчины и женщины, бесполые уже, как ангелы, и они обнимают друг друга: в жизни им не дали этого, и теперь они, в земле, чёрной, как глубокий космос, обнимаются века.
Они вместе — навечно. Ибо любовь — навечно и она сильнее любого тоталитаризма и безумия жизни.