Больше рецензий
4 ноября 2023 г. 13:31
8K
4 Границы между добром и злом
РецензияПризнаться, мне было нелегко читать данную книги и трудно писать отзыв, ведь, помимо того, что в книге упоминаются страшные злодеяния и бесчеловечная идеология, в такой с виду однозначной теме – суд над главными нацистами Третьего Рейха – все оказалось далеко не так однозначно. Практически с первых строк предисловия читателям поведают об идеологах реванша, которые пытались оспорить правомерность Нюрнбергского процесса, ставили под сомнения зверства фашистов и выражали сомнения в праве победителей устраивать суд над побежденными. Будет много примеров того, как избежали наказания преступники, например, 5 тысяч человек из эсэсовской команды Освенцима, к которым правительство ФРГ намеревалось применить обычные сроки давности уголовного преследования, или о том, какие высокие посты занимали в 60-е годы бывшие нацистские генералы.
Гнев мировой общественности вынудил бундестаг перенести применение сроков давности к нацистским преступникам на 1969 год. Но уже и сейчас те немногие судебные процессы, которые проводятся над ними в ФРГ, превращаются в издевательство над правосудием. Лживая «аргументация» нюрнбергской защиты стала теперь официальной доктриной западногерманских судов для оправдания непостижимо мягких приговоров в отношении гитлеровских убийц и палачей.
Ганса Фриче в Германии знали как правую руку Геббельса. На Нюрнбергском процессе он прикидывался овечкой, возмущался отвратительными преступлениями нацистского режима. Геринга не называл иначе, как «смердящим куском жирного мяса». Вопреки особому мнению советского судьи Фриче был оправдан. И вот теперь он опять взялся за старое ремесло: написал книгу, в которой с тем же усердием, что и при Гитлере, стал славословить Геринга. Фриче уверяет, будто в те дни, когда Герман Геринг давал свои показания Международному трибуналу, перед всеми слышавшими его «вырисовывался образ кристально чистого и энергичного человека, который был одновременно и храбрым солдатом, и сознающим свою ответственность государственным деятелем».
Папена спрашивают, чем он думает заниматься теперь, посвятит ли остаток своих лет политике? Старый гитлеровский зубр отрицательно качает головой:
— Нет, моя политическая жизнь окончательно завершена.
Может быть, в этом ответе ложь соседствовала с какой-то долей искренности – слишком уж скандально закончилась его политическая карьера и после первой, и после второй мировых войн. Тюрьма, одиночная камера, клеймо тяжкого военного преступника плюс почти семь десятков прожитых лет – вряд ли все это настраивало на продолжение политической жизни.
Так, по крайней мере, казалось. Но прожженный политический интриган, матерый милитарист фон Папен, оказавшись в атмосфере шовинистического угара, отравляющего Западную Германию, не смог даже на склоне лет оставаться безвредным для мира и спокойствия народов. От своего заявления не возвращаться более к политической деятельности он отказался сразу же, как только очутился на свободе. Папен разъезжает по Западной Европе и ведет яростную пропаганду за восстановление «старого рейха».А Фриче? Этот ближайший подручный Геббельса тоже клялся на пресс-конференции больше не впутываться в политику. И поначалу он действительно стал работать коммивояжером парижской косметической фирмы «Банекру». Но вскоре заскучал на новом поприще, его опять потянуло в водоворот новых милитаристских политических страстей. Фриче пишет книгу за книгой, фашиствующие издатели печатают их, и они вливаются в общий мутный поток неонацистской литературы, вновь призывающей к войне и насилию. Отравленное ядом реваншизма перо Фриче остановила лишь смерть: в 1953 году он умер.
Пресс-конференция во Дворце юстиции, проведенная тремя оправданными преступниками, была заснята многими фотокорреспондентами. На следующий день в фотолаборатории Дворца юстиции мне дали снимок, запечатлевший ее окончание… Что-то омерзительное было в этой фотографии. Люди в американской военной форме с восторгом трясли руку Шахту и Папену, поздравляли их так, как поздравляют обычно родного человека, оправившегося после тяжелой и казавшейся безнадежной операции.
Вспоминается, как на закрытом заседании, где в предварительном порядке рассматривался вопрос о виновности Фриче, и Биддл, и Паркер выражали искреннее сомнение, стоит ли его вообще судить. Ведь речь шла о пропаганде войны – вещи столь обычной в условиях империалистической Америки. И разве даже такая пропаганда не есть выражение священного права свободы слова? Помню, как Джон Паркер во время обмена мнениями прямо сказал:
— Такие Фриче имеются в каждом государстве, чего же их судить?
Забегая несколько вперед, замечу здесь, что в конечном счете большинством голосов западных судей при особом мнении советского судьи Фриче был оправдан.
Но при всем том и Биддл, и Паркер искренне возмущались зверствами гитлеровцев на оккупированных территориях, отвратительными, преступными извращениями нацистов. Здесь уже у них не было никаких сомнений в том, что подобные действия наказуемы.
Будут рассказы о том, как оправдывались нацистские лидеры в мемуарах и героизировались в трудах историков, какие комплементарные интервью с женами подсудимых выпускали газеты. Полторак описывает, как менялось настроение прессы, выражавшей интересы некоторых элитных кругов, особенно капиталистов и военных из США, а так же расскажет о том, как радостно подсудимые восприняли Фултонскую речь Черчилля, свидетельствующую о противоречиях среди союзников, дававшую им надежду на удачное окончание Нюрнбергского процесса
Подсудимые жадно набрасывались на газеты, которые им передавали защитники. Нацистские лидеры особенно интересовались, нет ли сообщений о разногласиях между союзниками. Как голодной курице снится просо, так Герингу и Риббентропу хотелось прочесть о конфликтах между буржуазным Западом и Советским Союзом.
Но по мере того как дни завершения войны все дальше уходили в прошлое, в западной, особенно американской, печати все чаще стали появляться высказывания о первых признаках напряжения в отношениях между Западом и Востоком. И чем чаще это случалось, тем оживленнее становилась скамья подсудимых. Во время перерывов подсудимые собирались группами, активно обсуждая новые мировые события. Тон их выступлений в ходе судебных заседаний становился развязнее, и всем своим видом они давали понять, что каждый из них гораздо лучше, чем западные обвинители, осознает очередные задачи империалистического мира.
Оказывается, американские газеты вышли в тот день с крупными заголовками: «Объединяйтесь, чтобы остановить Россию!» А ниже следовал текст печально знаменитого фултонского выступления Черчилля. Видный политический деятель одной из союзных держав призвал западный мир к антисоветскому объединению, с нескрываемой злобой говорил о народно-демократических государствах. На стол большой политики был брошен обветшалый козырь антикоммунизма.
Но фултонское выступление Черчилля было не единственным приятным сюрпризом для нацистских лидеров. Вслед за тем пришло сообщение о помиловании американскими властями гитлеровского генерала Штудента. Потом разразился антисоветской речью американский главнокомандующий в Германии Мак-Нарни, вышла книга американского дипломата Буллита, в которой программа Черчилля получила дальнейшую конкретизацию.
Геринг быстро ориентировался в новой обстановке. В своих показаниях он стал вдруг подробно расписывать, как еще в 1940 году Англия и Франция готовили бомбардировку нефтяных районов Кавказа. Защита поспешила тут же подкрепить эти показания документальными доказательствами, захваченными немцами во Франции. Все делалось для того, чтобы создать трещину в отношениях между советскими и западными представителями в Международном трибунале. Такую трещину, в которую мог бы провалиться весь Нюрнбергский процесс.В Нюрнберге происходил Суд народов, и в представителях Советского государства человечество видело наибольшую гарантию того, что реакции не удастся свернуть процесс с правильного пути. На имя Р. А. Руденко посыпалось большое количество писем из всех стран мира с призывом самым решительным образом осуществить многолетнюю мечту человечества – покарать гитлеровских агрессоров. Ему писали об этом и немцы, которые уже тогда, в 1946 году, стали замечать первые признаки восстановления германского милитаризма в западной части Германии. Вот, например, письмо Шульте из Фрейфельда-на-Рейне. Восхищаясь речью советского обвинителя, Шульте с тревогой сообщал о том, что нацистские преступники вновь выползают из своих нор и западные оккупационные власти поддерживают их: «…Даже самые большие пропагандисты не потеряли работы, нет, г-н генерал-лейтенант… Сейчас они уже снова говорят о войне с Россией и видят выгоду в этом для себя».
А вот письмо из Америки. Отправитель – «Общество для предупреждения третьей мировой войны». Этим письмом до сведения Р. А. Руденко доводилось, что, по данным печати, американские власти освободили из-под стражи виднейшего национал-социалистского идеолога Карла Гаусгофера, и тут же выражалась надежда, что именно советский прокурор примет меры, чтобы Гаусгофер был вновь арестован и включен в список главных военных преступников.
Да, большие, исторически ответственные задачи пали на плечи советского обвинителя. И эти задачи, в сущности своей антифашистские, антиимпериалистические, ему надо было решать, находясь в одной упряжке с буржуазными юристами, представлявшими в Нюрнберге крупнейшие империалистические державы.Бывший гросс-адмирал Карл Дениц, отбыв наказание по приговору Нюрнбергского трибунала, сам колесит ныне вдоль и поперек Западной Германии и читает лекции. О чем? О том, как он создал в нацистской Германии свирепую «волчью стаю» подводников и разбойничал на морских просторах. Милитаристская печать Бонна всячески рекламирует эти лекции и превозносит самого лектора, а правительство ФРГ платит пирату большую пенсию.
Не обойден вниманием Альфред Розенберг. Он сам написал свои мемуары, сидя в Нюрнбергской тюрьме. Теперь они изданы и снабжены предисловием, где подчеркивается, что это – «великий идеалист», который «умер, глубоко и искренне веря в национал-социализм».
Еще один «великий идеалист» обнаружен в лице Рудольфа Гесса. Оказывается, он ни о чем так не заботился, как об утверждении мира на земле. Дело дошло до того, что шведские реакционеры выдвинули его на соискание Нобелевской премии мира. А английская газета «Сэнди экспресс» надрывно закричала: «Освободите его!»
Герингом, Гессом и Розенбергом далеко не исчерпывается круг лиц, по коим проливают слезу уцелевшие нацисты. И слеза эта особенная. Те, кто защищают сегодня «поруганную честь» Геринга и Гесса, Розенберга и Деница, в сущности, думают о себе. Реабилитируя главарей нацизма, они тем самым реабилитируют себя.А вот сенсационное свидетельство американца Келли, автора книги «Двадцать две камеры». Келли часто виделся в Нюрнберге с Герингом и другими подсудимыми. Ему хорошо знакомы материалы процесса. И он решил доверительно сообщить своим американским читателям, что, по его мнению, Геринг «был человеком больших идей, огромных предначертаний». Оценивая результаты процесса и влияние последнего на репутацию Геринга, Келли кощунственно утверждает: «Нет сомнения в том, что Герман Геринг восстановил себя в сердцах своего народа. Нюрнбергский процесс только усилил его позиции».
Но если отбросить эти приметы Холодной войны и сосредоточиться на воспоминаниях автора о знаменитом международном трибунале, то книга выходит очень познавательной. Особенно для тех читателей, которые плохо знают состав гитлеровского правительства и с трудом отличают Шахта от Шираха, да и в целом кроме Гитлера, Геринга, Геббельса и Гиммлера не могут с ходу вспомнить нацистских лидеров. При этом книга легко читается, тут нет нудных подробностей, автор в весьма быстром темпе пробегается по основным событиям знаменитого процесса. Расскажет, почему был выбран именно город Нюрнберг, как выглядело здание суда, как содержали заключённых и как именно они попали за решетку. Полторак опишет судей и обвинителей, расскажет об адвокатах, найдется даже место переводчикам, ведь они занимали особое место и делали важную, очень сложную работу.
Но стоило измениться политической обстановке, стоило американским круппам выразить возмущение такой позицией, и Роберт Джексон сразу почувствовал, что под ним разверзается пропасть. Когда практически встал вопрос о международном судебном процессе над германскими промышленниками, в том числе и Круппом, тот же Джексон радикально изменил свою позицию. Он вдруг сделал заявление, диаметрально противоположное всем своим прошлым высказываниям: будто на Соединенных Штатах «не лежит ни морального, ни юридического обязательства проводить в дальнейшем процессы такого рода».
Так произошла обычная в буржуазном мире политическая метаморфоза. Но объективности ради мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на Нюрнбергском процессе Джексон сделал немало для разоблачения германского фашизма и милитаризма. Благодаря этому у членов советской делегации остались о нем самые хорошие воспоминания.Тем не менее американская военщина осталась при своем мнении и угрозы в отношении Тэйлора привела в исполнение. Его уволили из армии, сделали мишенью для самых резких и беспощадных нападок. Ему пришили ярлык «красного».
Несколько лет спустя после окончания Нюрнбергского процесса я читал статьи и книги Тельфорда Тэйлора. Местами он отдал дань «холодной войне», однако в целом его литературная деятельность определялась разоблачением германского милитаризма.Рядом с американским судьей сидел судья французский – Доннедье де Вабр, человек лет шестидесяти, с редкими волосами, могучими усами моржа и в темных роговых очках.
Наиболее ясно раскрылся де Вабр, когда рассматривался вопрос об ответственности гитлеровцев за преступления против партизан. Он никак не мог взять в толк, что тут, собственно, ставится в вину гитлеровцам.
— Международное право, – рассуждал он, – в качестве бойцов считает лишь людей в армейской форме. А если население берется за оружие, то это уже бандитизм. Таких субъектов противник вправе рассматривать как инсургентов и расстреливать без суда и следствия.
Подобные взгляды судьи, представлявшего страну, в которой в течение многих лет народ участвовал в движении Сопротивления, вызывали удивление, досаду и возмущение. Но в том-то и величие Нюрнбергского процесса, что даже столь реакционные выступления отдельных судей не могли существенно повлиять на его конечный результат.Теперь мы уже привыкли к тому, что во время международных встреч и конгрессов, где дискуссии ведутся на многих языках, ораторы не прерывают своих речей для перевода. Перевод осуществляется синхронно: с помощью радиоаппаратуры немцы и болгары, французы и арабы, англичане и итальянцы сразу слышат на доступных им языках любое высказывание. Но тогда, в Нюрнберге, такая система перевода была в новинку, особенно для наших советских переводчиков. С микрофоном они работали впервые, и можно себе представить, как все мы волновались, имея в виду, какое огромное значение придается в судебном разбирательстве буквально каждому слову. Однако волнения эти оказались напрасными. Наши ребята (я называю их так потому, что почти все переводчики были еще в комсомольском возрасте) не ударили в грязь лицом.
Но работа нашего «переводческого корпуса» не ограничивалась только этим. Стенограмму перевода надо было затем тщательно отредактировать, сличив ее с магнитозаписями, где русская речь чередовалась с английской, французской и немецкой. А кроме того, требовалось еще ежедневно переводить большое количество немецких, английских и французских документов, поступавших в советскую делегацию.
Да, дел оказалось уйма, и я благодарил судьбу за то, что наши переводчики были не только достаточно квалифицированными (большинство из них имело специальное языковое образование), но, что не менее важно, людьми молодыми и физически крепкими. Это и помогло им выдержать столь значительную нагрузку.
Сегодня, когда я пишу эти строки, мне очень хочется вспомнить добрым словом Нелли Топуридзе и Тамару Назарову, Сережу Дорофеева и Машу Соболеву, Лизу Стенину и Таню Ступникову, Валю Валицкую и Лену Войтову. В их добросовестном и квалифицированном труде – немалая доля успеха Нюрнбергского процесса. Им очень обязаны ныне многие советские историки и экономисты, философы и юристы, имеющие возможность пользоваться на родном языке богатыми архивами Нюрнбергского процесса.Переводчиков у нас было гораздо меньше, чем у делегаций других стран. Работы же для них оказалось, пожалуй, даже больше, чем у наших партнеров по трибуналу. И здесь все мы имели возможность лишний раз на практике убедиться в том, что такое новое, советское, отношение к труду.
Князь Васильчиков, состоявший на службе у американцев, с недоумением спрашивал наших синхронных переводчиков:
— Слушайте, господа, зачем вы еще занимаетесь переводом документов? Вам ведь за это не платят.
Синхронные переводчики, тратившие очень много энергии на выполнение своих прямых обязанностей, действительно освобождались от всякого иного перевода. Однако Костя Цуринов и Тамара Соловьева, Инна Кулаковская и Таня Рузская не могли оставаться безразличными, когда их товарищи – «документалисты» Тамара Назарова или Лена Войтова – сгибались под тяжестью своей нагрузки.Наше неписаное правило – товарищеская взаимопомощь – ярко проявлялась и в другом. Как я уже говорил, в кабинах переводчиков каждой страны всегда сидело по три человека. Речи судебных ораторов порой продолжались в течение часа и даже более того. В этих случаях переводчик с соответствующего языка работал с предельным напряжением, а остальные двое могли слушать, так сказать, вполуха, только чтобы не пропустить реплику на «своем» языке. Переводчики – американцы, англичане и французы в подобной ситуации обычно читали какую-нибудь занимательную книгу или просто отдыхали. Наши же ребята почти всегда все вместе слушали оратора и в полную меру своих возможностей помогали товарищу, ведущему перевод.
Справедливости ради не могу не заметить, что такая форма товарищеской взаимопомощи вскоре получила распространение и среди переводчиков других делегаций. Вот оно, пусть хоть маленькое, но все же торжество нашей морали!
Не всем подсудимым уделено подробное внимание в книге, отдельных глав удостоились только Геринг, Риббентроп, Кейтель вместе с Йодлем, Кальтенбруннер, Шахт, а также в общем германский генштаб. Будут упоминания и о Гессе, Лее, Фриче, Франке, Штрейхере, Функе, Папене, Денице. Конечно, не обошлось и без Паулюса, который выступал как свидетель.
Память моя хорошо сохранила также один по-своему драматический эпизод, связанный с допросом свидетеля Паулюса. Паулюс был тем человеком, который досконально знал все, что касалось подготовки гитлеровской агрессии против СССР. Как-никак, будучи заместителем начальника германского генерального штаба, он лично участвовал в разработке «плана Барбаросса». Не удивительно поэтому, что защитники гурьбой бросились с протестом к суду, когда советский обвинитель пытался огласить показания, данные Паулюсом в Москве. Защита требовала доставки этого свидетеля в Нюрнберг и почему-то была уверена, что Р. А. Руденко не отважится на такой шаг. В кулуарах адвокаты хихикали: одно, мол, дело давать показания в Москве и совсем другое здесь – в Нюрнберге, где Паулюс окажется лицом к лицу со своими бывшими начальниками и друзьями. Но когда щепетильный к протестам и просьбам защиты председатель трибунала Лоуренс осведомился, «как смотрит генерал Руденко на ходатайство адвоката», то случилось совершенно неожиданное. Советский главный обвинитель и уговаривать себя не дал – сразу согласился. Лишь люди посвященные могли заметить что-то сардоническое в его взгляде. И когда ничего не подозревавший Лоуренс спросил, сколько примерно времени потребуется для доставки свидетеля, Р. А. Руденко спокойно, я бы даже сказал непривычно медленно и как-то даже безразлично, ответствовал:
— Я думаю, ваша честь, минут пять, не более. Фельдмаршал Паулюс находится в апартаментах советской делегации в Нюрнберге.
Читатель уже догадался, что советский главный обвинитель, заранее предвидя обструкцию защиты, заблаговременно (но без излишней огласки) принял меры к доставке Паулюса в Нюрнберг. Это был удар подобно внезапно разорвавшейся бомбе. Защитники поторопились ретироваться, отказаться от своего ходатайства, но рассерженный Лоуренс потребовал немедленно доставить Паулюса в суд.
Допрос Паулюса, мастерски проведенный Р. А. Руденко, окончательно сразил попытки защиты представить нападение на СССР как оборонительную войну, а заодно и вскрыл перед лицом мировой прессы, присутствовавшей на процессе, негодные приемы нюрнбергских защитников
Через рассказы об этих личностях читатель узнает основные этапы Второй мировой войны, о захвате власти нацистами, о Ночи длинных ножей и о Хрустальной ночи, о немецкой довоенной дипломатии и о поведении на оккупированных территориях. Конечно, не обошлось тут без описания зверств в концлагерях и военных преступлений.
Так что книга подходит для тех, кто только начинает изучать тему Второй мировой войны, кто не готов читать подробности о жутких смертях и пытках, хотя в тексте упоминаются и абажуры из татуированной кожи, и мыло из человеческого жира ( в книге Николас Старгардт - Мобилизованная нация. Германия 1939–1945 я встречала информацию, что подобное мыло - это миф еще Первой мировой войны, а оказывается, мыло было предъявлено как доказательство на суде)
Могу порекомендовать эту книгу тем читателям, которые умеют пропускать мимо ушей некие стилистические особенности текста времен Холодной войны, так как тут моментами это слишком явно выражено, в духе «хорошие мы» и «плохие они», ярко проявляемая пристрастность автора несколько снижает достоверность и заставляет гадать, о чем он умолчал (например, тут приводятся доводы подсудимых против обвинений со стороны США и Великобритании, упоминаются уничтожения индейцев, захват Техаса, британская политика в Китае и английские концлагеря против буров, упоминается мюнхенская политика запада, но нет информации о разделе Польши и пакте Молотова-Риббентропа, поэтому любопытно, действительно подсудимые об этом не упоминали, не обвиняли СССР в каких-либо реальных нарушениях?) А еще стоит подчеркнуть, что есть аудиоверсия, так что читатели, предпочитающие данный формат, могут смело выбирать книгу для прослушки


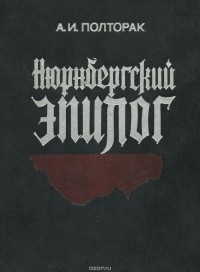
Комментарии
Автор не рассказывает, как английский судья его заткнул? Думаю, была некоторая договорённость между союзниками. Во избежании разлада, некоторые стороны вообще не обсуждать. У Англии рыльце было в пушку, а осудить нацизм можно было только общими силами.
Именно об этом эпизоде с Гессе вроде не рассказывал, но то, что старались не выходить за рамки, не распыляться и не осуждать друг друга - поведал, да.
Вот про Гесса что пишет Полторак
А вот про союзников
Хмм?
Странный довод, Галина)
Причем здесь Договор о ненападении между СССР и Германией, который на Западе называли пактом? Равенства не выходит)
На одной чаше весов Договор на другой уничтожение индейцев - вы считаете это равнозначным?))
Нет, вопрос не в равнозначности. Просто обычно, в наше время, когда упоминается Мюнхенский договор, почти всегда вспоминают и пакт и раздел Польши и наоборот, упоминая пакт и Польшу, всегда указывают на раздел Чехословакии.
Это просто пример, мне интересно, что нацисты могли возразить обвинителям от СССР, неужели даже не пытались сказать "а вы тоже виноваты" ( ну кроме безосновательных объяснений о превентивной войне, которое,по словам автора, было полностью опровергнуто)
Просто в книге сильно чувствуется односторонность подхода, словно автор не сообщает какую-то часть информации, поэтому теперь любопытно прочесть историю от лица кого-то из иностранных авторов, увидеть их взгляд
Сдается мне это ключевая фраза)
Хотя я не спец по Нюрнбергскому процессу, помнится в советское время выпускался восьмитомник, такое Академическое издание, может там есть ответ на ваш вопрос?
Это политика, и нигде вы "двухсторонности" не увидите.
такое мне не одолеть, я даже не уверена, что реально хочу читать иностранного автора, тема такая тяжёлая, что морально устаю сильно от такой литературы. Мне бы одну идеальную книгу, чтобы все сразу понять) Чтобы единственная правда там была и никакой политики) Понимаю, что это утопия, но мне бы про мир, дружбу было бы легче читать, а тут даже союзники оказываются лишь временными и почти сразу начинают против друг друга настраивать население и конца и края этому нет:(
Тебе надо поиграть в игру Grepolis. Я играла на международном сервере, но там есть и российский. С тех пор у меня нет вообще никаких иллюзий по поводу политики. Поразительно, как крохотное человеческое сообщество (альянсы на разных серверах бывают по 15-100 человек) повторяет в игре то, что происходит у профессиональных политиков. Противники, по словам лидеров альянсов, всегда едят младенцев и выбивают захваченных из игры, а в собственном альянсе всегда собираются благороднейшие доны, которые и мухи не обидят и воюют исключительно превентивно, просто чтобы соседский альянс их не захватил. Переходишь из альянса в альянс, и там циркулируют точно такие же слухи о конкурирующих альянсах. А по факту все альянсы ведут себя одинаково, во всех играют одинаковые люди.
Мне кажется, у меня нет иллюзий по поводу политики, поэтому я долгое время не читала о войнах и о политике вообще, предпочитаю не изучать новости и беречь нервную систему. Про прошлое читать все же легче, хотя все равно неприятно и расстраивает, я не понимаю как человечество сможет преодолеть это(а мысль, что не преодолеет вообще и что войны это нормальная составляющая жизни - очень печальна и пугает). Мне не нравится читать литературу, где навязывают образ врага, мне кажется, это приводит к дегуманизации, когда в других людях видишь лишь пороки, а себя считаешь невинной жертвой.
А как ты миришься с таким положением дел в литературе, тебя не задевает?
До того, как я поиграла в Греполис и до СВО, у меня была уверенность, что войны между относительно развитыми странами невозможны, что они происходят только где-то в нищих Африке и Азии, ну и тем более о своей стране у меня было мнение как о защитнице всех обездоленных.
С началом СВО у меня просто мир обрушился, это было огромной травмой, я несколько часов думала, что Путин пошутил, что это какая-то непонятка. Я не смотрю телевизор, поэтому когда я прочитала: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции», то думала, что это дипфейк и скоро опубликуют опровержение. Поэтому положение дел в литературе меня меньше всего сейчас задевает :D
у меня такой уверенности не было, к сожалению.
даже немного завидую, в этом вопросе я давно пессимист и сомневаюсь, что такая страна вообще может быть на Земле
а я убегаю в мир книг и прошлого, чтобы не думать о настоящем, о тех старых временах все же легче рассуждать
Не, ты что, я всегда была уверена, что Россия – щедрая душа, и «мы никогда ни на кого не нападали». Поэтому когда это всё случилось, для меня это стало травмой свидетеля. Это как ощущения героя этой книги Джеймс Кэрол - Сломанные куклы . За это время я с ней почти справилась, но тоже строго дозирую новости, чтобы не наткнуться на новости СВО. Хочу почитать эту книгу Галина Петракова - Травма свидетеля. Почему мне плохо от того, что я вижу и как с этим справиться .
Ну да, о старых временах легче рассуждать, потому что они совсем не трогают или почти не трогают, но по этой же причине они могут вызывать скуку.
Вот что можно почитать по теме Марк Ферро - Как рассказывают историю детям в разных странах мира .
Интересный вопрос по поводу пактов. Но был еще один, про который предпочитают вообще не вспоминать. И хоть он отношение имеет не к Нюрнбергскому процессу, а скорее к Токийскому, но и там его вроде бы не упоминали, хотя следовало бы. Между тем в этом мире все взаимосвязано. Я имею в виду пакт Ариты-Крейги, заключенный между Японией и Англией за месяц до договора о ненападении между СССР и Германией(не стал ли последний ответом на первый?). Англия согласно этому договору получала преференции в оккупированном Китае в обмен на признание японских территориальных захватов. И это после Халхин-Гола и Нанкинской резни.
ой, галина, как же вам не больно идти по этой теме? я годла два назад прикоснулась к ней в спектакле МХАТ им. Горького, так уже мурашки шли по коже... и дома годами стоит весчь, изданный в СССР, Нюрнбергский процесс... холодно. и ведь десяток томов...с уважением.
Больно и жутко, но хочется понять прошлое, насколько это в моих способностях. А какой вы спектакль смотрели? Я тоже скоро пойду на спектакль на подобную тему, расскажу потом в рецензии, так как нашла книгу, по которой спектакль сделан
здравствуйте, галина. это был "Нюрнбергский вальс". Случайно попала. Как раз были дни премьер (идет ли сейчас, не знаю) Там в одной из главных ролей играла Лиза Арзамасова, известная уже по многим работам. Самое на устах из ее сыгранных была роль в "Папиных дочках". Спектакль воссоздал картины суда. На мой взгляд, были сильные сцены. Во многом пугающие. Всё ли удалось? ..Судить каждому отдельно. Конечно, буду ждать ваших новых эссе. С уважением.
Полезла в Википедию понять, как эти гениальные люди могли определить, из какого там жира что варили, учитывая, что не существовало ДНК-анализа, и поняла, что в западной и российской историографии подходы к этому вопросу кардинальным образом различаются.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Soap_made_from_human_corpses
Вот что пишет автор
Более подробно про мыло в другой книге Александр Звягинцев - Главный процесс человечества. Нюрнберг: документы, исследования, воспоминания
Но я лично так поняла, что это не было массовое производство и скорее эксперимент, но все же мыло из людей было, так что не совсем миф без оснований
Да, эти авторы пишут то, что написано в русскоязычной Википедии. На англоязычной написано совсем другое.
Я прочла с переводом англоязычную, но там тоже ведь про человеческий жир, но вроде как побочный продукт, но все же было ведь, хоть и не имеет отношение к Холокосту. И не понятно, зачем свидетели рассказывали неправду.
А тот момент, что многие нацисты потом гуляли на свободе или получали должности хорошие вообще меня заставляет сомневаться в адекватности проверяющих и подозревать в заговоре всех и вся:))
Захотели и рассказали неправду :) Зачем люди вообще лжесвидетельствуют? Из выгоды, из мести, из желания прославиться, выступив на процессе мировой важности. И ещё из тысячи причин :)
Или свидетели рассказали правду, но те, кто хотел отмазать нужного им специалиста,его защитили?:)
Вот и не поймёшь, кому верить, хорошо, что вопрос мыла в целом меня не очень волнует, это капля в море.
Вопрос мыла меня тоже не волнует, просто ты написала, что немецкий автор написал, что мыло – это байки. Ну и когда я уточнила, то поняла, что это не он лично так написал, потому что не знал правды, это в принципе подходы в западной и российской историографии отличаются. А так у меня тоже мнение, что врут примерно все и враг всегда ест младенцев, а свой всегда чист, как слеза одного из тех самых младенцев :)
Ладно когда отличие проходит между мы/запад, а вот когда даже наши собственные историки не могут договориться, это вообще крышеснос для такого начинающего любителя исторической литературы как я. Как, например, с Катынью, оказывается на Нюрнбергском суде эта тема всплывала (я все же скачала книгу иностранного историка и пробежалась по диагонали)
Очень интересно, да. А в чём они не могут договориться и что всплывало на Нюрнбергском процессе?
Ну как же, вопрос кто убил поляков -НКВД или нацисты? Это очень громкое дело было и очень сильно имидж СССР испортило, но тогда вроде замяли, а Ельцин признал, что да, это советское преступление. Вот только теперь новый виток, что вроде Ельцин неправду сказал, чтобы лишний раз "пнуть" СССР и подружиться с Польшей.
А на Нюрнбергском процессе эту тему тоже как политический рычаг использовали, вроде чтобы не портить коалицию признали выну немцев, но современный иностранный автор уже иначе трактует.
В общем сплошная политика везде :(
Да ну признал. Написал, что это вина «сталинского режима», а не России. Вот уж признание так признание. Был какой-то инородный «сталинский режим» как сейчас «режим Зеленского», который все преступления и совершил. Я похихикала, когда прочитала о таком «признании». Это как признать, что преступление совершил какой-то Вася, не упоминая, что Вася – твой близкий родственник.
Только Ельцин ли признал? Это было в 2010 году, значит, Путин.
Точно, вроде недавно было, а думала раньше. Я не спец по Катыни совсем, но странно, зачем в 2000х эту тему было трогать?
ну я так понимаю "Вася" вообще ошибка прошлого и надо его забыть?) Я сегодня посмотрела "28 панфиловцев" и в шоке, как они там умудрились про СССР не упоминать и всех называть русскими, с учетом что панфиловцы были набраны в Казахстане и Киргизии, а они в фильме все про русских твердили и про защиту России (из серии, мы сейчас Россию защищаем, говорит один герою казаху, а когда будем твой Казахстан защищать, то другое делу будет:) )
Оооо, Галя, это вообще отдельная тема. Я сегодня была у родителей и они смотрели концерт по телевизору. И вот там в День России говорят исключительно про русский мир и поют исключительно русские народные песни, забыв про то, что мы вообще-то Российская Федерация. А как же калмыки, якуты, карелы, марийцы, удмурты? Недостойны их песни включения в концерт по поводу дня страны, в которой они являются гражданами и должны умирать за неё на военной службе?
Вроде все же Горбачев первый признал
В общем кто-то что-то признал, но кто-то не верит) Прям как с ложечками вышло
Да, я посмотрела, там сначала Горбачёв признал, потом Ельцин, потом Путин. И все «признали», что это всё некий сталинизм всех расстрелял. Что только этот сталинизм не совершил в одиночку.
Не, я такое точно не буду читать... в ближайшее время, точно)
Твоего краткого эссе - достаточно)
Да, это не та книга, которую надо всем рекомендовать) Тем более моя следующая рецензия тоже будет про тот же суд, так что можно почитать цитаты и считать, что ознакомится ))
Если тема интересна, то рекомендую отыскать пьесу Петера Вайсса "Дознание". Написано в форме стенограммы судебного процесса над администрацией Освенцима (если не путаю). Очень сильная вещь, произведение литературы и при этом вполне документальная
Спасибо, очень в тему, я как раз суды подобные сейчас изучаю с разных сторон