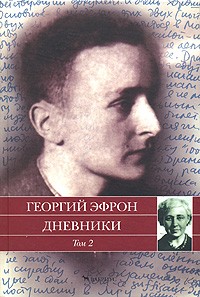Больше рецензий
16 октября 2021 г. 14:13
116
3.5
Рецензия2 том дневников. Начинается он с трех коротеньких предсмертных записок Марины Цветаевой: сыну, другу-литератору (лауреату Сталинской премии) и другим эвакуированным (словно крик в пространство: «Лю-ди! По-мо-ги-те!»). Все три о Муре, все три переполнены беспокойством о его судьбе, тревогой за его дальнейшее устройство, с удивительно трогательными отступлениями вроде просьбы не отправлять Мура на пароходе одного потому, что «пароходы – страшные» или пожелания труп автора «хорошенько проверить», чтобы не похоронить живой. Из этих записок мы видим, как в период отчаяния, разрухи и хаоса уход становится единственным выходом из жизненного тупика и единственно верным способом освободить пространство для сына: «Я для него больше ничего не могу и только его гублю», «со мной он пропадет», «хочу, чтобы Мур жил и учился». Георгий же вообще очень скуп на эмоции в своем дневнике, и по поводу смерти матери мы не увидим каких-то его переживаний, только в дальнейшем, видимо, в пору отчаяния, он выскажется, что мать, в сущности «совершенно правильно поступила – дальше было бы позорное существование».
Вся жизнь Георгия прошла в скитаниях, и смерть М.И. тут ничего не меняет: из Елабуги он попадает в интернат в Чистополе, однако и там, как чеховские три сестры, постоянно рвется в Москву, несмотря на очевидную опасность такого возвращения. Приехав же с огромными мучениями в столицу, вынужден эвакуироваться вновь – теперь уже в Ташкент, где и оборвутся его дневниковые записи.
Оказавшись в Москве в октябре 1941 года, Георгий становится свидетелем настроений и бурлений в период стремительного прорыва немцев к столице. Ведутся разговоры, что город сдадут немцам или же наоборот – всех положат, но город не отдадут, метро не работает, т.к. осуществляется подземная переброска войск, что город заминирован. Мур пишет, что половина жителей уезжает со своим скарбом, кто на автомобилях, кто и пешком, а оставшиеся мечтают, чтобы войска оставили город, тогда будет «оккупация по-мягкому», в городе разлита «атмосфера полнейшего поражения». 99% людей абсолютно уверены в предстоящем окончательном поражении армии и во взятии Москвы. Как дым исчезают Академия наук, институты, Большой театр. Повсюду огромные очереди за продуктами. А сообщения газет, рапортующих о «москвичах, намеренных защищать свой город во что бы то ни стало», демонстрируют лишь решение руководства страны не сдавать малой кровью город (при этом Георгий саркастически замечает, что «москвичи которые уехали, хотят уехать и ничего вовсе не хотят защищать», а удержание наших войск на подступах Москвы происходит «исключительно из-за огромного количества chair а canon, которое там находится»).
В период так называемой «московской паники» бегут директора предприятий, учреждений, не выплатив сотрудникам зарплат, все «ходят, как потерянные и говорят о поражении и переворотах», объявляется осадное положение и вводится военная власть с правом расстрела на месте, ожидается всеобщая мобилизация.
В эти дни роковые Георгий снова в дневнике вспоминает о матери, его посещают те же «мысли о самоубийстве, о смерти как самом достойном, лучшем выходе из проклятого «тупика». Нежелание участвовать в общественных повинностях приводит его к необходимости эвакуироваться в Азию, куда он рвется также в надежде встретиться с другом, по-настоящему родственным ему человеком – Митей.
Эвакуационный эшелон на Ташкент. Бесконечно долгая поездка. Походы за едой и водой, страшная неразбериха маршрута, неорганизованность, грязь, холод, усталость, отсутствие возможности получить/купить еды на станциях, отсутствие смысла происходящего, вонь, невозможность хоть как-то забыться (нет ни вина, ни водки, ни одеколона), слухи о разрушительных налетах на Москву и бомбежки поездов. И в этом сумрачном кошмаре у Георгия в дневнике появляются, на мой взгляд, две самых романтичных зарисовки: «5 дней пути. Вчера сутки стояли в поле и разводили костры, на которых грели воду и харчи. Поезд был похож на лагерь. Интеллигенция поддувала костры. Фетровые шляпы - и угольки и хворост. Трава. Совершенный "примитивный" образ жизни. У них был скорее глупый вид, у этих академиков, готовящих отвратительную жратву на случайном костре, с красными от осеннего холода носами…» и «Ясно, что эта дорога кошмарная, холод, голод, вши, отсутствие воды и т.д. Но это стоило - хотя бы ради того, чтобы повидать Митю. Ведь только потому, что Митя в Азии, я и поехал. Как будет хорошо его повидать! Какое первое восклицание придет ему на уста? О!». Так и вижу этих неловких, обжигающих себе пальцы людей, пытающихся, словно в первобытные времена, обогреться и приготовить пищу у костра. А кругом темень и подступающая стена леса, и только что и слышно, так это тихие голоса переговаривающихся людей и дыхание природы. А сколько чувства в этом «какое восклицание придет ему на уста?»! Восклицание! На уста! Почитав дневник Георгия, понимаешь, как ему не свойственны такие слова.
Ташкент. Ташкентские зарисовки – отдельное художественное произведение, в соответствии с хронологией помещенное составителями в дневник, представляющее собой тонкое наблюдение нравов эвакуированных и местных жителей, исполненное с каким-то чеховским юмором. Остается только сожалеть, что они столь коротки, потому что раскрывают они таланты Георгия с совершенно новой стороны.
В Ташкенте он привычно мечтает о возвращении в Москву, ждет открытия второго фронта, следит за успехами союзников, читает книги, страшится призыва в трудармию, но основной массив дневниковых записей этого периода сводится к коммерческим операциям (продажа вещей, еды, продовольственных карточек, получение денег от добрых соседей, Литфонда, родственников, просьба денег, кражи ради денег, дебет, кредит) и к подробному перечислению (вес, стоимость, количество) купленной, подаренной, отоваренной, съеденной еды. Дневник почти постоянного голода, из которого постепенно исчезают записи о покупке книг, о походах в кино, стрижке, о походах в баню, покупке одежды, стирки одежды – денег остаётся только на скудный прокорм. За этим настойчивым стремлением зафиксировать ежедневные денежные прибыли и убыли, количество съеденной еды, лежит не только врожденная педантичность, видимо, причиной является то, что эти события действительно являются самыми важными событиями дня. Когда тобой управляет голод, то все мысли и все дороги ведут к еде и к деньгам, как средству эту еду получить. Становятся возможными и кражи и, что ещё более предосудительно для него самого, - продажа подаренных матерью книг: «Глупо и преступно против её памяти то, что я продал эти ее книги с надписями ко мне: "Моему сыну…" и т.д. Неужели я так мало ценю ее память и все наше общее прошлое? Ох, не знаю. Надо все оборвать - и все воскресить; начать новую жизнь, - но которая должна вернуть старое. Поди-ка разберись.».
Также в ташкентский период в дневниках появляется тема, волнующая всех в СССР, - открытие второго фронта, ожидание его, нетерпение, отчаяние, недовольство медлящими союзниками. Георгий в данном вопросе удивительно здраво мыслит, настолько прозорливо, что хочется целиком привести его размышления по этому вопросу: «В заключение - это злосчастное мнение, которое частенько приходится слышать: "Мы проливаем кровь и бьем Гитлера, а союзники сидят сложа руки; мы даем союзникам возможность вооружаться, мы их спасаем от Гитлера". Опять-таки получается впечатление, будто мы - очень добрые дяди, сознательно борющиеся против немцев, чтобы дать возможность англичанам и американцам спокойно вооружаться и накапливать силы. А между тем это, конечно, далеко не так. Каждому человеку от мала до велика, абсолютно каждому известно, что мы, русские, боремся против врага, который на нас вероломно напал и захватил ряд важнейших территорий. Русские борются за изгнание немцев из СССР и возвращение утраченных территорий. И все. И больше ничего. На нас напали, мы защищаемся, ведем борьбу за свою землю против чужеземцев. Союзники оказались на нашей стороне: хорошо. Но какое право мы имеем от них требовать что-либо? Другое совершенно дело, если бы мы сами пошли против Германии и договорились с Англией. Но ведь было как раз наоборот! Мы сторонились англо-германской войны. Мы во время этой войны заключили договор. Мы во время этой войны заключили договор о дружбе с Германией! Мы надеялись в конце концов вытянуть каштаны из огня! Мы надеялись присоединиться к той стороне, которая менее всего ослабнет в этой войне. Мы кормили и снабжали Германию. Все это ясно показывает, что мы не можем иметь права что-либо требовать, на что-либо претендовать. Мы боремся за себя, за освобождение своей страны. Очень хорошо, что нам помогают союзники, оказавшиеся с нами в одном лагере. Но подхлестывать союзников, торопить их и давать им военные советы - на это мы не имеем права. Нельзя принимать позу борца за все человечество, когда борешься за свою хату. Т.е. принимать такую позу можно, но надо знать, что она является именно позой, и больше ничем другим. Если мы действительно очень облегчаем задачу союзникам, сражаясь против основных сил Гитлера, то получилось это случайно, и сражаемся мы не против фашистов, а против иностранных захватчиков. На фашизм нам было наплевать до июня 1941го г. (Что писалось тогда, до войны, с 1939го г., в наших газетах!) И надо радоваться тому, что союзники - с нами, что они нам поставляют оружие, технику, продовольствие, самолеты и танки, а не заниматься бессмысленной и праздной критикой их бездействия. Таков мой взгляд на события. Будем надеяться, что таков будет взгляд истории.»