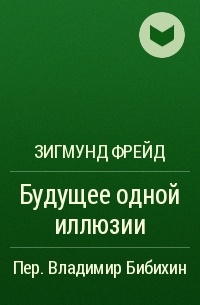Больше рецензий
26 февраля 2021 г. 21:11
2K
5
Рецензия"Будущее одной иллюзии" - эта книга заставляющая думать, размышлять о причинности и смыслах религии. Её предпосылках и следствии развития. Мне захотелось порассуждать над словами автора в формате собственных комментариев над отдельно взятыми тезисными формулировками каждой главы, но исключительно в формате их контекста.
Глава 3.
З.Фрейд интересно развивает свою мысль. К самому главному, определяющему весь смысл книги, он подводит логически мягко, понятно и рассудительно - без лишней экспрессии, как допустим Ф. Ницше. Он пишет о причинности религии и веры:
«Но ни один человек не обманывается настолько, чтобы верить, будто природа уже теперь покорена; мало кто смеет надеяться, что она в один прекрасный день вполне покорится человеку. Перед нами стихии, как бы насмехающиеся над каждым человеческим усилием, земля, которая дрожит, расседается, хоронит все человеческое и труд человека, вода, которая в своем разгуле все заливает и затопляет, буря, которая все сметает, перед нами болезни, в которых мы лишь совсем недавно опознали нападение других живых существ, наконец, мучительная загадка смерти, против которой до сих пор не найдено никакого снадобья и, наверное, никогда не будет найдено. Природа противостоит нам всей своей мощью, величественная, жестокая, неумолимая, колет нам глаза нашей слабостью и беспомощностью, от которых мы думали было избавиться посредством своего культурного труда.»
Где природа со всей её непредсказуемостью и мощью сначала пугает человека, заставляет бояться. А после человек для собственного успокоения отождествляет природные стихии с чем-то человеческим, (так, верно, и возникло язычество), а после уже и с богом, который предопределяет всё, вершит правосудие и судьбу человека.
«Задача здесь троякая, грубо задетое самолюбие человека требует утешения; мир и жизнь должны быть представлены не ужасными, а кроме того, просит какого-то ответа человеческая любознательность, движимая, конечно, сильнейшим практическим интересом.
Самым первым шагом достигается уже очень многое. И этот первый шаг-очеловечение природы. С безличными силами и судьбой не вступишь в контакт, они остаются вечно чужды нам. Но если в стихиях бушуют страсти, как в твоей собственной душе, если даже смерть не стихийна, а представляет собою насильственное деяние злой воли, если повсюду в природе тебя окружают существа, известные тебе из опыта твоего собственного общества, то ты облегченно вздыхаешь, чувствуешь себя как дома среди жути, можешь психически обрабатывать свой безрассудный страх. Ты, может быть, ещё беззащитен, но уже не беспомощно парализован, ты способен по крайней мере реагировать, а может быть, ты даже и не беззащитен, ведь почему бы не ввести в действие против сверхчеловеческих насильников, то есть сил внешней природы, те же средства, к которым мы прибегаем в своем обществе; почему бы не попытаться заклясть их, умилостивить, подкупить, отняв у них путем такого воздействия какую-то часть их могущества. Такая замена естествознания психологией не только дает мгновенное облегчение, она указывает и путь дальнейшего овладения ситуацией.»
«человек делает силы природы не просто человекообразными существами, с которыми он может общаться как с равными, — это и не отвечало бы подавляющему впечатлению от них, а придает им характер отца, превращает их в богов»
«Со временем делаются первые наблюдения относительно упорядоченности и закономерности природных явлений, силы природы утрачивают поэтому свои человеческие черты. Но беспомощность человека остается, а с нею тоска по отцу и богу. Боги сохраняют свою троякую задачу: нейтрализуют ужас перед природой, примиряют с грозным роком, выступающим прежде всего в образе смерти, и вознаграждают за страдания и лишения, выпадающие на долю человека в культурном сообществе.
Но постепенно акцент внутри этих функций богов смещается. Люди замечают, что природные явления, следуя внутренней необходимости, происходят сами собой; боги, разумеется, господа природы, они её устроили и могут теперь заняться самими собой. Лишь от случая к случаю посредством так называемых чудес они вмешиваются в её ход как бы для того, чтобы заверить, что они ничего не уступили из своей первоначальной сферы господства. Что касается повелений рока, то неприятная догадка: неведению и беспомощности рода человеческого тут ничем не поможешь, — остается в силе.»
З. Фрейд подмечает, как со временем менялось отношение людей к божественному. Изначально боги были распорядителями природных сил и законов, позднее начали выполнять также функцию судей-отцов с вознаграждением или наказанием за людские деяния. После было условлено, что природные явления происходят сами собой, а боги, хоть и могут вмешиваться в природные стихии, но они, имеющие свои судьбы, прежде всего следят за культурными предписаниями людей.
Это имеет смысл того, что
«Так создается арсенал представлений, порожденных потребностью сделать человеческую беспомощность легче переносимой.
Ясно видно, что такое приобретение ограждает человека в двух направлениях — против опасностей природы и рока и против травм, причиняемых самим человеческим обществом. Общий смысл всего таков: жизнь в нашем мире служит какой-то высшей цели, которая, правда, нелегко поддается разгадке, но, несомненно, подразумевает совершенствование человеческого существа. По-видимому, объектом этого облагорожения и возвышения должно быть духовное начало в человеке — душа, которая с течением времени так медленно и трудно отделилась от тела. Все совершающееся в земном мире есть исполнение намерений какого-то непостижимого для нас ума, который пусть трудными для понимания путями и маневрами, но в конце концов направит все к благу, то есть к радостному для нас исходу.
Всякое добро в конечном счете по заслугам вознаграждается, всякое зло карается, если не в этой форме жизни, то в последующих существованиях, начинающихся после смерти.»
Для человека, не властного над силами природы, над обстоятельствами жизни, такой взгляд очень удобен. Верить в кого-то. Размывая возможности и границы своего «Я».
Глава 4.
Мне очень понравилась психоаналитическая мотивировка формирования религии в контексте развития человека З.Фрейда. Он пишет о том, что изначально у человека еще в детском возрасте формируется понимание родителей - как мощной защиты от всех внешних сил. Она абсолютна по отношению к матери. А по отношению к отцу – амбивалентна: помимо защиты ребёнок усматривает в нём и страх. Что же происходит дальше? А дальше…
«Когда взрослеющий человек замечает, что ему суждено навсегда остаться ребенком, что он никогда не перестанет нуждаться в защите от мощных чуждых сил, он наделяет эти последние чертами отцовского образа, создает себе богов, которых боится, которых пытается склонить на свою сторону и которым тем не менее вручает себя как защитникам. Таким образом, мотив тоски по отцу идентичен потребности в защите от последствий человеческой немощи; способ, каким ребенок преодолевал свою детскую беспомощность, наделяет характерными чертами реакцию взрослого на свою, поневоле признаваемую им, беспомощность, а такой реакцией и является формирование религии.»
Это интересное наблюдение наводит меня на мысль о том, что люди, освободившиеся от веры, от своих стремлений найти силу в ком-то – человеке то или в боге, это люди выросшие - прошедшие стадию поиска сил и нашедшие их в самих себе. Хочется быть честной и гордится этим. Ведь вера по сути – слабость.
Глава 5.
Начнём рассуждать о доказательности тех или иных вещей.
Узнавая что-то, мы удостоверяемся в истинности самостоятельно проверив, так ли это. Что же с религией? Как можно проверить и доказать существование бога?
«Если мы поднимем вопрос, на что опирается их требование верить в них, то получим три ответа, на удивление плохо между собой согласующиеся. Во-первых, они заслуживают веры, потому что уже наши предки им верили; во-вторых, мы обладаем свидетельствами, дошедшими до нас от той самой древности; а в-третьих, поднимать вопросы о доказательности догматов веры вообще запрещено.»
«наши праотцы были гораздо более невежественны, чем мы, они верили в такие вещи, которые мы сегодня никак не в состоянии допустить. Закрадывается подозрение, что религиозные учения тоже, пожалуй, относятся к такого рода вещам. Свидетельства, дошедшие до нас в составе этих учений, зафиксированы в книгах, в свою очередь, несущих на себе все черты ненадежности. Они полны противоречий, подвергались редакциям, фальсифицировались; когда в них сообщается о фактах, то самим этим сообщениям подтверждения нет. Мало помогает делу, когда источником их буквальных выражений или их содержания объявляется божественное откровение, потому что подобное утверждение само является уже частью тех самых учений, чья достоверность подлежит проверке, а ведь ни одно утверждение не может доказать само себя.»
«Так мы приходим к поразительному выводу, что как раз те сообщения нашей культуры, которые могли бы иметь величайшее значение для нас, которые призваны прояснить нам загадку мира и примирить нас со страданиями жизни, что как раз они-то имеют самое слабое подтверждение. А ведь даже такой для нас безразличный факт, как, например, то, что киты рождают детенышей, а не откладывают яйца, мы никогда не решились бы принять просто на веру, если бы он не был подкреплен более весомыми свидетельствами.»
«Такая ситуация сама по себе является очень любопытной психологической проблемой. И не следует думать, будто вышеприведенные замечания относительно недоказуемости религиозных учений содержат нечто новое. Это ощущалось во все эпохи, несомненно также и нашими предками, оставившими после себя такое наследие. Вероятно, многие из них питали те же сомнения, что и мы, только над ними тяготел слишком большой гнет, чтобы они отважились их высказать. И с тех пор несчетные множества людей терзались одинаковыми сомнениями, которые они старались подавить, потому что считали веру своим долгом; многие блестящие умы надломились в этом конфликте, многие характеры стали ущербными из-за компромиссов, путем которых они искали выход из положения.»
Глава 5.
Фрейд задаётся вопросом. Почему же так вышло, что человечество отреклось за столько лет существования от разума, предоставив место неоправданной вере? Ответом, по его мнению, служит стремление людей к «торжеству справедливости», достигаемому если ни при жизни, то после неё, но так или иначе достигаемое.
«Добрая власть божественного провидения смягчает страх перед жизненными опасностями, постулирование нравственного миропорядка обеспечивает торжество справедливости, чьи требования так часто остаются внутри человеческой культуры неисполненными, продолжение земного существования в будущей жизни предлагает пространственные и временные рамки, внутри которых надо ожидать исполнения этих желаний.»
Глава 6.
Какое определение дать нашему отождествлению религии, если не верить в неё. Чем она объективно становится для нас? Заблуждением, которое истинно противоречит реалиям? Или быть может иллюзией? Что такое тогда иллюзия?
«Характерной чертой иллюзии является её происхождение из человеческого желания, она близка в этом аспекте к бредовым идеям в психиатрии, хотя отличается и от них, не говоря уж о большей структурной сложности бредовой идеи. В бредовой идее мы выделяем как существенную черту противоречие реальности, иллюзия же необязательно должна быть ложной, то есть нереализуемой или противоречащей реальности.»
«Итак, мы называем веру иллюзией, когда к её мотивировке примешано исполнение желания, и отвлекаемся при этом от её отношения к действительности, точно так же как и сама иллюзия отказывается от своего подтверждения.»
Вера в бога той или иной религии есть ни что иное, как иллюзия. Иллюзия словно мечта, желание, положительно облекаемая в веру.
Однако, как интересно получается в сознании людей:
«Ни один разумный человек не станет в других вещах поступать так легкомысленно и довольствоваться столь жалким обоснованием своих суждений, своей позиции, он себе это позволяет только в самых высоких и святых вещах.»
Глава 7.
Как импульсивен и циничен был Ф.Ницше в своих рассуждениях о религии, и как противопоставлено ему рассуждение З.Фрейда. - Он идет от истоков, предпосылок и думает о влиянии своих рассуждений, о том, как они могут быть восприняты и к чему привести человека. Очень гуманно, с моей стороны. Истина прекрасна своей чистотой, но может быть убийственна своей жестокой честностью.
Археологические интересы сами по себе вполне похвальны, но раскопки не производятся там, где в ходе их подрываются жилища живых людей, так что они могут рухнуть и похоронить людей под своими обломками.
Но речь не только про гуманность, но и про культурный базис, который формирует религия. Она, существующая столько столетий, словно поддерживает текущий миропорядок. З. Фрейд считает:
Если людей научат, что не существует всемогущего и всеправедного бога, не существует божественного миропорядка и будущей жизни, то они почувствуют себя избавленными от всякой обязанности подчиняться предписаниям культуры. Каждый станет необузданно, безбоязненно следовать своим асоциальным, эгоистическим влечениям, насильничать, снова начнется тот хаос, который мы сдерживали многотысячелетней работой культуры. Даже если бы было известно и доказано, что религия не располагает истиной, нужно было бы молчать об этом и вести себя так, как требует философия <как если бы>. В интересах всеобщего блага!
Бесчисленные множества людей находят в учениях религии свое единственное утешение, лишь благодаря их помощи способны перенести тяготы жизни. Вы хотите отнять у них эту опору, не дав им ничего лучшего взамен. Общепризнано, что наука сегодня мало что дает, но даже если бы она шагнула намного дальше в своем прогрессе, она бы не удовлетворила людей. У человека есть ещё и другие императивные потребности, на которые не в силах дать ответ холодная наука, и очень странно, прямо-таки верх непоследовательности, когда психолог, всегда подчеркивавший, как далеко на второй план отступает в жизни человека разум по сравнению с жизнью влечений, теперь пытается отобрать у человека драгоценный способ удовлетворения желаний и компенсировать его интеллектуальной пищей»
Глава 8.
Почему бы не заменить религию со всеми её оснополагающими порядками и ориентирами на правосудие государства? Речь здесь не о духовной составляющей, а о морально-социальной, где нету места эгоистическим вещам, подобно убийствам, насилиям и т.д. Это была бы логически разумная эволюция и трансформация веры человека…
«лучше, пожалуй, вообще вывести бога из игры и честно признать чисто человеческое происхождение всех культурных установлении и предписаний. Вместе с мнимой святостью эти запреты и законы утратили бы и свою оцепенелую неизменность. Люди смогли бы понять, что законы созданы не столько для их порабощения, сколько для служения их интересам, стали бы относиться к законам дружественнее, вместо их отмены ставили бы целью их улучшение. Это был бы важный шаг вперед по пути, ведущему к примирению с гнетом культуры.»
Однако вера в бога не только в запретах, она ещё и иллюзия, чего не стоит забыть, так как государство этого предложить в противовес не сможет. Как и возможную загробную жизнь со всеми благами. Нет, государство даже с моралью права и законом - это лишь институт правосудия.
Далее З. Фрейд говорит о том, что изначально моральный принцип о том, что нельзя убивать людей появился в первобытном мире и определил социальное поведение, связав его изначально с божественным наставлением.
«Стало быть, религиозное представление верно, бог действительно участвовал в создании того запрета, тут действовало его влияние, а не понимание социальной необходимости.»
Поспорю, ибо божественное слово исходило из человеческих уст, какими бы первобытными они ни были. Вероятно, кто-то понял изначально эту социальную необходимость и преподнёс её как божественную и далее она интерпретировалась именно как святая божественная воля.
Вера в бога сопоставима с неврозом ребенка, замечает З.Фрейд. Он представляет невроз, как культурное развитие, где ребенок через «многочисленные позывы влечений», в будущем нереализуемых, вытесняет их, преодолевает и таким образом растёт. Вероятно, Фрейд думал, что духовный рост человека, как и ребенка в своё время отождествлен с отторжением бога и веры в него.
«можно было бы прогнозировать, что отход от религии неизбежно совершится с фатальной неумолимостью процесса роста»
Глава 9.
«разве неверно, что инфантилизм подлежит преодолению? Человек не может вечно оставаться ребенком, он должен в конце концов выйти в люди, в <чуждый свет>. Мы можем назвать это <воспитанием чувства реальности>»
Вера как детский инфантилизм должна быть преодолена человеком, он должен вырасти из неё, либо остаться в своей опьяняющей иллюзии, подобно наркотикам, которые так и не отпустят из этого духовного человеческого рабства, называемого верой.
Ради чего? Да хотя бы ради того, чтобы верить в настоящее и преобразовывать его, наслаждаясь исключительно им, не ориентируясь на возможно райскую загробную жизнь.
«Что морочить ему голову обещанием какой-то латифундии на Луне, доходов с которой никому ещё и никогда не приходилось видеть? Как честный малоземельный крестьянин на этой земле он будет знай обрабатывать свое поле, чтобы оно его кормило. Перестав ожидать чего-то от загробного существования и сосредоточив все высвободившиеся силы на земной жизни, он, пожалуй, добьется того, чтобы жизнь стала сносной для всех и культура никого уже больше не угнетала.»