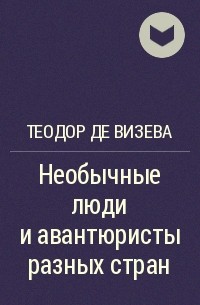Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
II. Автобиография немецкого санкюлота71
Среди бесчисленных человеческих «типов», которые Французская революция внезапно выбросила на поверхность с тем, чтобы уничтожить их чуть ли не на следующий день после появления, среди этой живописной толпы эксцентричных людей и авантюристов всех стран, возрастов и социального положения, призванных сыграть значительную или скромную роль в величественной драме, развернутой перед нами историей, едва ли встречался когда-нибудь такой тип человека – одновременно неожиданный и характерный – , каким был Фридрих Христиан Лаукхард, университетский профессор, ставший солдатом, чьи замечательные «Воспоминания» недавно вернул читателям один ученый немецкий муж. И я не думаю также, что когда-либо второстепенное действующее лицо Революции обнаружило бы перед нами – словно вдохновившись примером Руссо не прятать своих мыслей и поступков – столько откровенной наивности и цинизма, не говоря уж об абсолютной искренности повествования и замечательном таланте рассказчика и портретиста, позволившего ему сделать из своей автобиографии захватывающий приключенческий роман и в то же время дать совершенно неоспоримое и точное историческое свидетельство.
Дважды, в 1792 и в 1795 годах, Лаукхард предпринял у издателя в Галле публикации подробных рассказов о самых знаменательных событиях своей необычной карьеры. Первая часть его «Воспоминаний», целиком посвященная описанию детства и долгого пребывания в полудюжине немецких университетов, вызвала любопытство и имела определенный успех не только из-за своих собственных достоинств, но и благодаря славе, которую мгновенно принес автору странный и безрассудный поступок, одним прекрасным днем превративший этого ученого мужа в простого солдата прусской армии. Вторая же часть, повествующая о кампаниях, в коих участвовал экс-профессор – сначала в немецкой коалиции против Франции, потом во французской республиканской армии и, наконец, тоже во французской армии, но уже эмигрировавших роялистов, – эта часть в 1795 году прошла почти незамеченной немецкой публикой из-за событий, тревоживших ее в то время. Потом эти книги погрузились в вековое забвение, хотя основные энциклопедические словари и продолжали упоминать о странном человеке, написавшем их. Посему нельзя не выразить большой благодарности господину Виктору Петерсену за то, что он извлек «Воспоминания» из небытия, осуществив краткое и отлично выполненное издание, с интересной биографической справкой и с еще более интересным гравированным портретом автора, где большой покатый лоб, острый нос, ироническое и чувственное выражение губ подкрепляют впечатление, создавшееся после чтения «исповеди» Лаукхарда, об уме и характере этого ученого, остряка и плута. Опираясь на это издание, я попробую изучить биографию Лаукхарда, особо обращая внимание на страницы, наиболее относящиеся к истории Революции. Но, впрочем, в представленных господином Петерсеном двух томах нет ни одной главы, которая не содержала бы в изобилии интересные истории, оригинальные, зачастую замысловатые рассуждения и заставляющие задуматься откровения одного из самых сложных и противоречивых людей, обнажавших когда-либо перед нами свою душу.
I
Фридрих Христиан Лаукхард родился в 1759 году в Нижнем Палатинате, в небольшом городке Вендельсхайме, где его отец был лютеранским пастором. Но эта профессия, которой отец нашего героя остался верен до самой смерти – к вящей радости своей паствы – , отнюдь не помешала ни его неверию в Бога, ни воспитанию своих сыновей в неверии, хотя он и хотел видеть их священниками и не допускал мысли, что они могут избрать профессию, отличную от отцовской.
Мой милый и добрый батюшка, – рассказывает Лаукхард, – очень отличался – не ища в том славы – от большинства протестантских пасторов Палатината. В молодости он усердно учился и с особым воодушевлением изучал труды Вольфа74. Он частенько признавался мне, что метафизические принципы этого ученого однажды, в счастливый час, привели его к потере всякой веры в основные догмы лютеранской теологии. Позже, продолжая учиться и размышлять (чего не делало большинство его собратьев), он критически пересмотрел все утверждения катехизиса и все отверг как несовместимые со своими философскими воззрениями. Наконец, он натолкнулся на еретические труды Спинозы, сделавшие его ярым пантеистом.
Сей «милейший» священник, упрекаемый сыном только в излишне большой терпимости по отношению к католикам, присовокупил к религиозному неверию страсть к алхимии, и поэтому, не имея времени постоянно заниматься воспитанием детей, передал их на попечение одной из своих сестер, доброй, немного глуповатой старой деве, которая, обладая неуемной тягой к выпивке, приучила племянника с десяти лет пить вино и водку, в то время, как добряк-мельник и молоденькая служанка принялись приобщать его к другим удовольствиям, еще более продвинувших его в нравственном приобщении к будущей профессии пастора. Но ранняя развращенность, на всю жизнь сделавшая из Лаукхарда пьяницу и бабника, с детства сопровождалась неуемной жаждой знаний, которая заставляла его проглатывать все попадавшиеся на глаза книги. Также принесли пользу и получаемые время от времени отцовские уроки на самые различные темы, за исключением одной – катехизиса: его пастор Лаукхард не только не преподавал своему отпрыску сам, но и запретил изучать в соседней школе, куда отправил его учиться.
Фридриху Лаукхарду было около восемнадцати лет, когда, блестяще завершив «классическое образование», он поступил в Гиссенский университет, ставший первым среди учебных заведений, где должна была пройти вся его молодость. Несмотря на незнание катехизиса и выставляемое напоказ неверие куда более решительное и непримиримое, чем у его отца, он записался в Гиссене на теологический факультет так же, как затем в Гейдельберге, Йене и Галле, – и всюду ценился учителями за ум и высокое качество своих «диссертаций», а у товарищей вызывал единодушное восхищение богатым опытом выпивохи, игрока и организатора злых шуток, направленных против горожан. Правде, иногда он пытался расстаться с университетской жизнью с тем, чтобы занять пасторскую должность, добытую благодаря неустанным хлопотам отца, но вскоре пьянство, галантные похождения и слишком явная неумеренность его «вольтерьянства» лишали новоиспеченного пастора места, полученного с таким трудом. И юный теолог спешил вернуться к милому его сердцу существованию студента, перешедшее однажды, после выдержанного с блеском экзамена на звание «магистра философии», в бытие университетского профессора.
В Галльском университете, бывшем в те времена одним из самых больших и известных университетов Германии, «мэтр» Лаукхард занял с первых же месяцев 1783 года положение, которому могли бы позавидовать многие из его бывших однокашников. Его лекции по древнееврейскому и древнегреческому языкам, по истории Церкви привлекали к нему много платных студентов; его литературные труды сделали его имя известным широкой публике; один из самых уважаемых людей старого университетского города, доктор Землер, почтил его своей дружбой. Этот доктор – и пастор – и сам был любопытным примером того состояния анархии, в которую погрузилась протестантская теология во второй половине XVIII века под влиянием французских энциклопедистов: великолепно образованный, посвященный более, чем кто-либо из его современников, во все тонкости экзегезы и восточной филологии , он исповедовал подобие христианского деизма, состоявшего в прославлении моральных принципов Евангелия и в недопущении в религию ничего сверхъестественного, – и вместе с тем он был очень хорошим человеком, образцом бескорыстия и милосердия, всегда готовым простить шалости своего молодого друга, ценя более или менее остроумные замечания последнего в адрес лютеранского катехизиса и его защитников.
Но ни советы доктора Землера, ни пример его добродетелей не смогли одолеть совсем не «магистерские» привычки Лаукхарда, приобретенные им в результате долгих лет пребывания в кабаках, притонах и прочих злачных местах Гиссена и Гейдельберга, а затем Майнца и Страсбурга, где – я забыл добавить – начинающий теолог в компании баварского дворянина и иезуита-расстриги удовлетворял свою жажду вина и «вольнодумства». То почтенные профессора Галльского университета огорчаются при известии о том, что их нового коллегу подобрали мертвецки пьяного на улице Йены, то проходит слух, что университетский цензор запретил «мэтру» Лаукхарду публикацию романа, оскорбляющего известных и уважаемых жителей города. Дабы избежать отеческих упреков доктора Землера, Лаукхард, которого сей ученый муж поначалу принял в своем доме, переселился в гостиницу, пользовавшуюся очень дурной славой – и тут же родители большинства его учеников запретили своим отпрыскам брать у него уроки и даже посещать публичные лекции профессора, который, казалось, задался целью подавать плохой пример. Кроме того, переезд был предпринят с целью избежать уплаты долгов по прежнему адресу, ставшему в конце концов хорошо известным, поскольку и его начальники и добряк-отец начали в изобилии получать гневные письма его кредиторов. Так что профессорская карьера Лаукхарда становилась не только все более и более трудной, но и грозила завершиться вскоре катастрофой. Этим мы и можем объяснить – хотя бы отчасти – странную и неожиданную мысль, пришедшую ему в голову на исходе 1783 года: навсегда оставить поприще ученого и за скромное жалованье в восемь луидоров поступить солдатом в прусскую армию.
Напрасно родственники, вчерашние коллеги и даже новые начальники пытались отговорить его от подобного, весьма странного, поступка: слух о новой выходке «мэтра» Лаукхарда приумножил его славу, что более других причин повлияло на его намерение совершить этот безрассудный поступок. Возможно, экс-профессор, в конечном итоге, и не очень-то жалел о переменах в своей жизни: новые начальники-офицеры предоставили ему много свободного времени, кредиторы не могли до него дотянуться, и молодой солдат, освобожденный от груза прежних обязанностей, мог, как когда-то, с приятностью делить свой досуг между выпивкой и учеными занятиями. Взамен университетских лекций другие уроки восполнили недостаток его ежедневного заработка, издатели заказывали ему небольшие произведения, укреплявшие его репутацию писателя. Лишь несколько раз покидал он Галле для того, чтобы принять участие в маневрах, но эти редкие «повинности» совсем его не огорчали, поскольку давали возможность приблизиться к важным особам, у которых он не упускал возможности вытянуть талер-другой и над которыми в то же время потешался, наблюдая их пороки и чудачества. В 1790 году из-за возникших напряженных отношений между Пруссией и Австрией, его полк получил приказ направиться в Силезию, но почти тотчас же был заключен мир, и главным результатом этой кампании для Лаукхарда стало то, что ему представилась возможность в течение продолжительного времени с большим удовольствием обследовать все увеселительные заведения Берлина, и его «Воспоминания» оставили о них множество забавнейших и наивно-бесстыдных в своем реализме описаний и анекдотов. Именно в Берлине наш искатель приключений познакомился с герцогом Фридрихом фон Брунсвиком который, прослышав о его обстоятельствах, попросил Лаукхарда перерассказать несколько историй из своего дневника, и тот написал на французском языке «Отрывки из дневника прусского мушкетера во время кампании 1790 года», присовокупив к сему прекрасную оду на латыни, сочиненную специально в честь юного принца, и, возможно, именно «вознаграждение», полученное за этот ученый дар, способствовало «весьма опасной болезни», чуть было не помешавшей несколько дней спустя нашему солдату покинуть с полком Берлин.
Вернувшись в Галле, Лаукхарду удалось завязать тесную дружбу с бывшим францисканским монахом по имени Бишпинк. Сей Бишпинк, преподавая некогда философию в одном из монастырей своего ордена, вдруг заметил ложность положений, излагаемых своим ученикам, – и в тот же миг превратился в злейшего врага христианских догматов. Он сбежал из монастыря и открыл в Галле книжное дело, специализируясь по преимуществу на публикации и продаже антирелигиозной литературы, но, судя по всему, порнография не была совсем чужда экс-монаху, так как в 1791 году он заказал своему другу Лаукхарду первую часть его «Воспоминаний», содержащую в основном рассказы о любовных похождениях автора в родном городке и в университетских центрах, где тому довелось жить. Произведение, как я уже говорил, появилось в 1792 году и имело замечательный успех, но к этому времени автор был вынужден окончательно оставить спокойную и удобную жизнь в Галльском гарнизоне, дабы на полях сражений в Вальми и под стенами крепости Ландау начать вторую часть своих приключений.
II
Выступив из Галле 15 июня, полк Лаукхарда прибыл 9 июля в Кобленц, где собралась праздная и шумная толпа французских эмигрантов. Прусский генерал, опасаясь дезертирства, запретил своим подчиненным посещать иностранцев, поскольку в эмигрантских войсках уже находилось большое число солдат из других полков. Но Лаукхард с первых же дней почел своей обязанностью не выполнять предписания, так как был слишком счастлив от представившейся возможности продемонстрировать в элегантных кафе, переполненных эмигрантами, и свои познания во французском языке и прибыльное умение играть во все карточные игры. По его описаниям морального разложения, существовавшего в Кобленце и окрестностях во время пребывания там эмигрантов, можно догадаться, что он не преминул извлечь из этого для себя большое удовольствие и некоторую выгоду. К тому же он не скрывает, что об их развращенности он слыхивал из уст «девиц» Кобленца. Его интонация добродетельной горечи не может ввести в заблуждение, и мы видим, он охотно продолжил бы свое исследование эмигрантского бахвальства, мотовства и бесконечных «галантностей», если бы коалиционная армия, где он состоял, не двинулась маршем к Триру, Люксембургу и французской границе.
Никогда, – пишет он, – я не забуду день, когда мы впервые ступили на французскую землю. Утром, перед тем как мы покинули наше расположение, стояла теплая и безветренная погода; пройдя две мили, мы вынуждены были остановиться и пропустить кавалерию и артиллерию, во время этой остановки на нас обрушился страшный ливень, холодный и пронизывающий, из-за которого мы с трудом продвигались вперед. Наши ряды опять смешались, и мы стали лагерем около деревни под названием Бреэн-ла-Виль, всего лишь в миле от германской границы.
Дождь все лил и лил не переставая, а так как плохое состояние дороги замедляло продвижение обоза, мы вынуждены были долгое время оставаться под открытым небом, под проливным дождем, промочившим нас до костей. Каких только ругательств не пришлось услышать от офицеров и солдат!
Примерно через час нам приказали отправиться в соседнюю деревню за дровами и соломой, а другие принялись заготавливать корм лошадям. Естественно, делалось это, как обычно делается во вражеской стране: наши солдаты срезали и вырвали с полей всю пшеницу; нескольких мгновений было достаточно, чтобы превратить в пустыню поле, с которого восемь или десять деревень надеялись получить урожай, питавший бы их в течение всего года. Но более ужасны были сцены, происходившие в деревнях. Ближе всего к нашему расположению находилась вышеназванная Бреэн, прекрасное местечко, где жил недавно «королевский бальи». Бегом, чтобы согреться, я с другими солдатами отправился туда под предлогом заготовления дров и соломы. Но прежде, чем заняться этим, большинство моих товарищей обследовало дома и унесло из них все, что можно было унести: белье, одежду, провизию и многое другое для себя или для продажи.
Мужчины из окрестных деревень ушли, оставив жен, видимо, полагая, что те имеют больше шансов вызвать сострадание у завоевателей. Но грубый солдат не испытывает большого почтения к прекрасному полу, особенно во вражеской стране…
Наконец, когда уже спустилась ночь, мы увидели свой обоз. Мы быстро поставили палатки и растянулись на соломенных тюфяках, страшно промокшие и все покрытые грязью. Ночью солдаты, оставленные в карауле, покинули свои посты и опять пошли грабить соседние деревни.
Двадцатого августа герцог фон Брунсвик, командовавший совместно с королем Пруссии захватнической армией, приблизившись в сопровождении небольшого экскорта к крепостным стенам Лонгви, потребовал, чтобы гарнизон сдался без боя. Сначала комендант крепости не хотел подчиняться, рассчитывая на прочность старых стен Вобана и надеясь на скорую подмогу извне. Но жители Лонгви, едва услышав выстрелы и стремясь сохранить невредимыми свои дома, заставили его капитулировать, – таким образом, первым воинским подвигом Лаукхарда стало победоносное вступление в этот маленький лотарингский городок. Однако ж наш философ полагал, что взятие Лонгви и Вердена «имело ужасные последствия для немецкой армии, поскольку если бы французы показали себя более стойкими и нанесли бы побольше вреда противнику, то он не смог бы далее двигаться по неприятельской земле, как это случилось, или, по крайней мере, должен был бы принять дополнительные меры предосторожности для обеспечения своей защиты».
В Лонгви Лаухард все же имел возможность оградить себя от грядущих лишений: герцог фон Брунсвик, «обнаружив, что лавки крепости полны провизии», приказал выдать своим солдатам огромные рационы «табака, водки, сала, копченого мяса и так далее». Но куш был бы гораздо больше, если бы ответственные за распределение офицеры не утаили бы для себя всевозможные вещи и не перепродали бы их старьевщикам. В частности, Лаукхард сокрушается, что из множества пар чулок, которые «высокочтимый герцог» приказал раздать солдатам, он не получил ни одной.
После десятидневного отдыха в Лонгви немецкая армия двинулась на осаду Вердена, и, как и в Лонгви, местные жители не замедлили капитулировать, несмотря на героическое противостояние коменданта Борепера. Здесь тоже были богатые лавки, и Лаукхард , наученный опытом Лонгви, где щепетильность и подчинение дисциплине помешали ему взять свою долю добычи, не упустил случая и хватал все, что попадало в руки. «Часто, – рассказывает он, – я угощал вином и водкой моих соседей по палатке; и однажды мне перепала совсем новая офицерская шинель, я продал ее лейтенанту за четырнадцать талеров, хотя одни только золотые галуны стоили дороже. Если не возьму я, возьмет кто-то другой! – отныне этот довод стал для меня почти всегда правилом поведения».
В затяжной дождь прусские войска выступили из Вердена навстречу неприятелю. Из-за нехватки лошадей и фургонов, они должны были оставить часть провизии позади. Продвижение по топким дорогам было таким медленным, что – как со своей обычной откровенностью признался Лаукхард – только лень и упадок сил помешали ему в тот момент «перейти на сторону французов». Нарисованная им картина похода вплоть до сражения при Вальми совсем не похожа на ту, что оставил нам автор «Вертера» и «Фауста», участвовавший в той же кампании, находясь в ближайшем окружении прусского короля и немецких принцев; но оба описания правдивы, и мы вынуждены принимать в расчет и то и другое свидетельство. В то время как Гете с изяществом и точностью великолепных оценок рассказывает о приготовлениях к битве, наблюдая их из палатки командиров, Лаукхард показывает это с точки зрения изможденных и голодных солдат, всегда готовых возмутиться приказами офицеров и не очень хорошо представляющих себе, должны ли они ненавидеть или восхищаться «патриотами», с которыми их заставляют сражаться, да еще испытывающих суеверное почтение к королю и принцам, к тем, кто – как некоторые из солдат совершенно серьезно полагали – был совершенно неуязвим для пуль. И их товарищ и историк Лаукхард, в своем двойном качестве бывшего профессора и «философа», с большим трудом прощает им и этот, еще один, предрассудок.
О подробностях же операции при Вальми Лаукхард почти ничего не сообщает: до его полка, расположенного далеко от места сражения, долетело лишь несколько случайных пушечных ядер. Но сам он, несмотря на презрительное отношение к дурацким идеям других солдат, однако, «очень порадовался», наблюдая, с какой отвагой король Пруссии в сопровождении пяти или шести генералов расположился на самом видном месте, куда без конца летели вражеские пули. С другой стороны, он уверяет, что Дюмурье, «если б захотел, нашел бы возможность принести больший урон немецкой армии», и добавляет, что таково также мнение короля Прусского и герцога фон Брунсвика. Действительно, после «приблизительно четырехчасового взаимного артиллерийского обстрела» побежденные начали спокойное отступление, но за ним последовали тяжелые дни, когда голодные, измученные, упавшие духом солдаты шли под ветром и дождем, постоянно боясь натолкнуться на этих ужасных «патриотов», которых вовсе не жаждали увидеть вновь.
К сожалению, невозможно пересказать здесь все, что говорится в «Воспоминаниях» Лаукхарда об обстоятельствах отступления, как, впрочем, невозможно вкратце изложить главы, где наш герой описывает свое новое пребывание в Лонгви, вступление в отвоеванный у французов Франкфурт и все приключения во время памятных зимы и весны 1793 года. И все же я попытаюсь пересказать два-три характерных эпизода из этих глав.
Первой заботой жителей Франкфурта после ухода республиканской армии было продемонстрировать свою радость, уничтожая всякие следы недавнего пребывания французов. «В кафе биллиардные маркеры, у которых до этого в ходу были французские термины, вдруг сразу стали подсчет очков на немецком; мамзели решили именоваться молодыми дамами, слова toilette, pique, cœur, carreau85, были заменены, часто неуклюже. Журналисты дружно объявили, что, единственно страх гильотины заставлял их подавлять свое чувство патриотизма, когда они принимали героя Кюстина и его солдат.» С другой стороны, в деревнях в окрестностях Майнца крестьяне признавались, что с воодушевлением встречали захватчиков, но лишь потому, что вообразили, будто французы, тоже католики, прибыли по приказу папы для обращения протестантов в свою веру.
Когда пришло известие о казни Людовика XVI, Лаукхард, пьянствуя в кабаке Хёхста, посчитал своим долгом отреагировать на это событие и обратился к приятелям с длинной и напыщенной речью, где, сравнивая процессы над тремя государями, приговоренными своими подданными к смерти, – Агисом IV, Карлом I Английским и Луи Капетом, – пришел к заключению о полной законности приговора последнему. Его речь была настолько ученой, витийство настолько неожиданным у пьяного солдата, что оратор должен был повторить ее на следующий день перед группой офицеров, – это позволило ему получить новое «вознаграждение», сопровождаемое увещеванием умерить своей неуемный «либерализм».
14 апреля полк выступил на подмогу осаждающим Майнц. Место, где располагались Лаукхард и его товарищи, и французское расположение разделялись только рвом, и противники частенько могли переговариваться; «Воспоминания» предоставляют нам удивительные образчики диалогов, которые велись там. «Послушай-ка, чертов патриот, – начинал, к примеру, прусский солдат, – ты скоро отправишься на гильотину?» – «Ну, ты, проклятый прислужник тиранов, когда твой капрал своими шпицрутенами сделает тебя хромым?» – «Ну и собаки же вы, вы убили своего короля! Вас всех в наказание нужно отправить в ад!» – «Если вы не будете дураками, вы зададите такую же колотушку всем тиранам! Это сделало бы из вас людей, а сейчас вы только подневольные животные, заслуживающие удары хлыста, которым вас охаживают!»
Но если в событиях, о которых говорит Лаукхард в первой части «Воспоминаний», то есть в продолжение всей кампании против Франции, ему доставалась роль свидетеля или статиста, то уже к концу 1793 года ситуация резко изменилась, предоставив ему отныне роль настолько значительную, что это позволило ему, как он сообщает нам, «начать рассказ главным образом о своих собственных деяниях».
III
Полк, где числился Лаукхард, с 18 сентября участвовал в осаде важнейшей крепости Ландау, в Эльзасе. Известно было, что, в отличие от Лонгви и Вердена, этот город было очень трудно взять осадой, но надеялись, что нехватка продовольствия рано или поздно заставит жителей капитулировать. А поскольку Лаукхард, болтая в кабаке, похвалялся, будто его однокашником некогда был депутат Дентцель, который ныне с генералом Лобадером защищал Ландау и который являлся даже немного его родственником, начальство решило послать его в крепость якобы как дезертира, с заданием переманить, а в случае надобности и подкупить своего родственника и друга. Лично полковник князь Гогенлоэ и принц Людвиг Прусский по очереди вели с нашим солдатом долгие и искусные разговоры, затрагивая разом его тщеславие, философский «пацифизм» и любовь к «вознаграждениям», и в конце концов экс-профессор, изрядно подуставший к тому времени от солдатской жизни, принял это необычное и трудное предложение.
Ночью три французских патрульных драгуна обнаружили Лаукхарда у ворот крепости и доставили его к генералу Лобадеру, которому тот объявил, что республиканские принципы и ненависть к тирании заставили его покинуть прусскую армию. Генерал предложил ему стакан вина и спросил об обстановке в войсках осаждающих, и Лаукхард со своей обычной откровенностью поспешил предоставить различные сведения, уже готовый забыть о прусских «вознаграждениях», оттягивавших его карманы. После того, как мнимый дезертир опустошил бутылку во славу (и за счет) Республики, его проводили к депутату Дентцелю, какового он и нашел сидящим за столом в компании молодой и очаровательной дамы.
Сия любезная особа вначале предложила мне стаканчик ликера. После чего мы с Дентцелем завели беседу о пруссаках, об университетах Галле, Йены и Гиссена, о «вольнодумце» теологе Бардте91, страстными почитателями которого были мы оба, о Французской революции, об осаде и о сотне других, серьезных или приятных, вещах. Вскоре и генерал Лобадер присоединился к нам, и Дентцель, едва завидев его, закричал: «Вот, генерал, мой соотечественник Лаухард, славный малый, – я счастлив найти его вновь! Мы сделаем из него настоящего гражданина!»
Радушный прием депутата сразу же придал мне бодрости, а выпитое вино сделало таким болтливым, что мои новые товарищи были совершенно очарованы мною… Я остался обедать у Дентцеля и имел удовольствие познакомиться с генералом Дельмасом92, горячим молодым человеком. Гражданка Лутц, обедавшая с нами, была дочерью богатого мясника из Ландау. Она жила у Дентцеля и помогала ему коротать время в отсутствие жены, оставленной им в Париже, но я должен заметить, что она не была слишком строга или труднодоступна для гостей своего постоянного любовника. Он обменивался с ней весьма вольными любезностями, сдобренными грубостями, как у нас в Палатинате. Мы говорили, естественно, по-французски, так как оба генерала не понимали ни слова по-немецки. А поскольку я частенько употреблял старые выражения «monsieur» и «mademoiselle», то мои хозяева по-дружески укоряли меня, предупреждая, что отныне я должен обращаться к другим «гражданин» и «гражданка», равно, как и обращаться ко всем на «ты», включая и Лутциху, тут же начавшую мне тыкать.