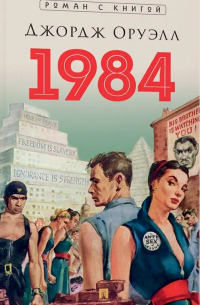Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
VII
Если есть надежда, – написал Уинстон, – то она в пролах.
Если есть надежда, то она должна быть в пролах. Лишь в этих презренных массах, составляющих восемьдесят пять процентов населения Океании, может когда-нибудь возникнуть сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя разрушить изнутри. Ее враги – если такие имеются – не в состоянии объединиться, они не могут даже узнать друг о друге. Даже если легендарное Братство существует, что вполне возможно, то его члены никогда не смогут собраться больше чем по двое-трое. Ведь достаточно взгляда в глаза, непривычной интонации, а тем более шепота невзначай, чтобы вас обвинили в бунте. Одним лишь пролам, если бы только они осознали свою силу, не надо было таиться. Им нужно лишь подняться и стряхнуть с себя паразитов, как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть – и они могли бы разбить Партию вдребезги хоть завтра утром. Должно же рано или поздно прийти им это в голову? Однако же!..
Он вспомнил, как шел по людной улице, и вдруг откуда-то из переулка донесся гул сотен голосов, женских голосов. Это был грозный крик гнева и отчаяния – низкое громкое «О-о-о-о-о-!» гудело и нарастало, словно колокольный звон. Сердце у него подпрыгнуло. Началось, подумал он. Бунт! Пролы, наконец, сорвались с цепи! Он поспешил вперед и увидел толпу из двух-трех сотен женщин у прилавков уличного рынка с такой трагедией на лицах, словно это были обреченные пассажиры тонущего корабля. И тут же общее отчаяние разбилось на сотни отдельных перепалок. Оказалось, что за одним из прилавков продавали жестяные кастрюли. Жалкого вида, никудышные, но ведь и таких нигде не достать. И вдруг кастрюли кончились. Счастливчики протискивались сквозь толпу, прижимая к себе добычу, пока другие их пихали и шпыняли, а неудачники у прилавка галдели, обвиняя торговца в корыстном умысле, в барышничестве. Где-то закричали с новой силой. Две обрюзгшие бабы – одна с растрепанными волосами – вцепились в кастрюлю и тянули каждая к себе. В результате у кастрюли отлетела ручка. Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же, пусть недолго, но какая силища звучала в этом реве, исторгаемом лишь парой сотен глоток! Почему они никогда не кричат так о чем-то действительно важном?
Он написал:
Пока у них не пробудится самосознание, они не восстанут, но самосознание пробудится у них не раньше, чем они восстанут.
Такая формулировка, отметил он про себя, была весьма в духе партийных учебников. Разумеется, Партия утверждает, что освободила пролов от рабства. До Революции их страшно угнетали капиталисты: морили голодом и секли плетьми, женщин заставляли работать в угольных шахтах (между прочим, женщины и теперь там работали), шестилетних детей продавали на фабрики. В то же время в полном соответствии с принципами двоемыслия Партия учит, что пролы от природы неполноценны и их следует держать в подчинении, как животных, руководствуясь простыми правилами. На самом деле о пролах было известно немного. Но большего и не требовалось. Лишь бы работали и размножались, остальное не имело значения. Их предоставили самим себе, точно домашний скот, бродивший по равнинам Аргентины, и они стали жить в естественной манере по примеру предков. Они рождались и вырастали в трущобах, начинали работать лет в двенадцать, у них был короткий период расцвета и полового влечения – женились в двадцать, к тридцати начинали стареть, а умирали по большей части лет в шестьдесят. Тяжелая физическая работа, заботы о доме и детях, перебранки с соседями, кино и футбол, пиво и, конечно, азартные игры – этим ограничивался круг их интересов. Среди них всегда крутились агенты Мыслеполиции, которые распространяли ложные слухи, выискивали и убирали тех немногих, кто мог представлять какую-то опасность. Пролам никогда не пытались навязать идеологию Партии – считалось нежелательным развивать их политическое мышление. От пролов требовался лишь примитивный патриотизм, к которому призывали, когда нужно было увеличить продолжительность рабочего дня или снизить нормы выдачи продуктов. И даже когда пролы проявляли недовольство, а они иногда его выражали, это ни к чему не приводило, поскольку у них не было общих идей, и возмущение их не шло дальше личных конфликтов. Большое зло, можно сказать, обходило их стороной – почти ни у кого из пролов не было телеэкранов. Даже гражданская полиция редко вмешивалась в их дела. В Лондоне процветала уголовщина – существовал целый подпольный мир воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и всевозможных вымогателей; но все это творилось среди самих пролов и потому не имело значения. В вопросах морали им позволяли полагаться на понятия предков. Пуританские доктрины Партии на них не распространялись. Беспорядочные половые связи не влекли за собой наказания, разводы разрешались. Наверное, пролам разрешили бы и религию, если бы они испытывали в ней хоть малейшую потребность или интерес. Пролы были ниже подозрений. Партийный лозунг формулировал это так: «Пролы и животные свободны».
Уинстон нагнулся и осторожно почесал варикозную язву. Она опять зудела. Постоянно он упирался в невозможность узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Он достал из ящика школьный учебник истории, который одолжил у миссис Парсонс, и принялся переписывать в дневник один из абзацев:
В прежние дни, до нашей славной Революции, Лондон мало походил на прекрасный мегаполис, который мы видим сегодня. То был темный, грязный, жалкий город, где почти никто не ел досыта, где сотни, тысячи бедняков ходили босиком и не имели даже крыши над головой. Детям не старше вас приходилось работать по двенадцать часов в сутки на жестоких хозяев, которые били их ремнем, если они работали слишком медленно, и кормили черствыми корками хлеба с водой. Среди этой страшной нищеты высилось несколько огромных прекрасных домов, где жили богатые люди, за которых все делали по тридцать человек прислуги. Такие богачи назывались капиталистами. Это были жирные уроды со злыми лицами, как на иллюстрации на следующей странице. Вы видите, что капиталист одет в длиннополое черное пальто, которое называлось «фрак», и в нелепую блестящую шляпу, похожую на печную трубу, – она называлась «цилиндр». Такой была форма капиталистов, и никому больше не разрешалось носить ее. Капиталистам принадлежало все на земле, а все остальные люди были рабами. Капиталистам принадлежала вся земля, все дома, все заводы и все деньги. Если кто-нибудь им не подчинялся, они могли бросить его в тюрьму или лишить работы и обречь на голодную смерть. Если простой человек заговаривал с капиталистом, он должен был кланяться и кивать, снимать кепку и говорить «сэр». Самый главный капиталист назывался королем, и…
Все остальное он уже знал. Будут упомянуты епископы с батистовыми рукавами, судьи в горностаевых мантиях, позорный столб, ценные бумаги, отупляющий однообразный труд, плетка-девятихвостка, приемы у лорда-мэра Лондона, а также ритуал целования туфли Папы Римского. Существовал еще обычай jus primae noctis (право первой ночи), но, возможно, об этом не станут писать в учебнике для детей. Это право позволяло капиталисту спать с любой женщиной, работающей на его заводе.
Как же узнать, что из всего этого неправда? Может, средний человек теперь действительно живет лучше, чем до Революции? Единственный контраргумент – это немой протест твоих костей, инстинктивное чувство, что условия твоей жизни невыносимы и что когда-то, наверное, все было иначе. Он подумал, что главная особенность современной жизни – не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а пустота, серость и апатия. Реальная жизнь не только не имеет ничего общего с потоками лжи, льющимися с телеэкранов, но и с теми идеалами, которые провозглашает Партия. Огромная часть жизни даже у партийцев однообразна и не связана с политикой: надо корпеть на скучной работе, толкаться за место в подземке, штопать рваные носки, выпрашивать таблетку сахарина, беречь каждый окурок. Идеал, провозглашаемый Партией, рисует нечто колоссальное, грозное и лучезарное – этакий мир из стали и бетона, мир чудовищных машин и ужасающего оружия, страну воинов и фанатиков, марширующих стройными рядами, одинаково мыслящих, одинаково кричащих лозунги, неустанно работающих, сражающихся, торжествующих и искореняющих врагов – триста миллионов людей, и все на одно лицо. А реальность – это вымирающие грязные города, в которых по улицам бродят полуголодные люди в дырявых ботинках. Они живут в ветхих домах, которые построили в девятнадцатом веке, и за годы они насквозь провоняли капустой и неисправными уборными. Ему представился Лондон – огромный разрушенный город, целое море мусорных ящиков, и почему-то вспомнилась миссис Парсонс – морщинистая, всклокоченная, беспомощно стоящая у засоренной раковины.
Уинстон снова нагнулся и почесал лодыжку. Днем и ночью телеэкран забивает уши цифрами, доказывая, что сегодня люди лучше обеспечены едой и одеждой, лучше отдыхают, живут в лучших домах и значительно дольше, работают меньше, что они выше ростом, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. Ничего тут нельзя ни доказать, ни опровергнуть. К примеру, Партия утверждает, что сегодня сорок процентов взрослых пролов умеют читать и писать, тогда как до Революции грамотных среди них было всего лишь пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность составляет теперь лишь сто шестьдесят на тысячу, а до Революции – триста, и так далее. Это напоминало уравнение с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в учебниках истории – даже все то, что никто не ставит под сомнение, – это чистый вымысел. Как знать, может, и не было никакого jus primae noctis, или такого существа, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.
Все расплывалось в тумане. Прошлое было подчищено, о подчистках забыли, и ложь стала правдой. Только раз в жизни Уинстон располагал конкретным, неоспоримым свидетельством фальсификации прошлого, причем задним числом – в этом вся суть. Он держал его в руках не меньше полминуты. Это было около 1973 года – примерно тогда же он расстался с Кэтрин. Впрочем, фальсификация произошла на семь-восемь лет раньше.
Вся эта история началась в середине шестидесятых годов во время больших чисток, в которых разом сгинули все настоящие вожди Революции. К 1970 году никого из них, кроме Большого Брата, уже не осталось. Всех остальных успели разоблачить как предателей и контрреволюционеров. Голдштейн бежал и скрывался неведомо где, что же до остальных, то кто-то просто исчез, а большинство казнили после эффектных публичных процессов, на которых они признались в совершенных преступлениях. Дольше других оставались в живых Джонс, Аронсон и Рузерфорд. Их арестовали году в 1965-м. Как это часто бывало, они исчезли на год-полтора, и никто не знал, живы они или нет. Затем они возникли из небытия и, как полагалось, облили себя грязью. Они признались, что шпионили в пользу противника (противником в то время, как и сейчас, была Евразия), признались, что виновны в растратах государственных средств и в убийствах видных членов Партии, признались, что плели заговоры против Большого Брата, причем еще задолго до Революции, признались в актах саботажа, повлекших за собой смерть сотен тысяч людей. После всех этих признаний их простили, восстановили в Партии и назначили на, казалось бы, важные посты, которые на деле были лишь синекурой. Все трое выступили с пространными покаянными статьями в «Таймс», анализируя причины своего падения и обещая искупить вину.
Вскоре после их освобождения Уинстон случайно увидел всех троих в кафе «Под каштаном». Он наблюдал за ними украдкой, в каком-то зачарованном ужасе. Все они были гораздо старше его – реликты древнего мира, едва ли не последние крупные фигуры героического прошлого Партии. Над ними еще витал романтический дух подпольной борьбы и гражданской войны. Ему казалось (хотя уже в то время факты и даты начали расплываться в тумане), что он услышал их имена на много лет раньше, чем имя Большого Брата. И тем не менее они были теперь вне закона – врагами, неприкасаемыми, несомненно обреченными на смерть через год-другой. Еще никому, попавшему в руки Мыслеполиции, не удавалось избежать такого конца. Они были трупами, ожидавшими, пока их уложат в могилу.
Никто не садился за соседние столики. Неразумно было показываться в такой компании. Они сидели молча, перед ними стояли стаканы джина с гвоздикой – местного фирменного напитка. Наибольшее впечатление на Уинстона произвел Рузерфорд. Когда-то он был знаменитым карикатуристом, чьи безжалостные рисунки помогали Партии возбуждать общественное мнение до и во время Революции. Даже теперь его карикатуры иногда появлялись в «Таймс». Но это была не более чем имитация его прежней манеры, неубедительная и пресная. Он все время перепевал старые темы: трущобные дома, голодные дети, уличные драки, капиталисты в цилиндрах – даже на баррикадах они упорно держались за свои цилиндры – бесконечные и безнадежные попытки вернуться в прошлое. Рузерфорд выглядел страшно: копна немытых седых волос, обрюзгшее, изборожденное морщинами лицо, толстые негроидные губы. Должно быть, когда-то он обладал недюжинной силой; теперь же все его тело обвисло, согнулось, раздулось и разрушалось со всех сторон. Казалось, он рассыпался на глазах, точно крошащаяся скала.
Было пятнадцать часов. Тихое безлюдное время. Уинстон уже не мог припомнить, как он оказался в кафе в такой час. Посетителей было мало. Из телеэкранов звучала отрывистая музыка. Эти трое молча сидели в своем углу, почти не шевелясь. Официант приносил им одну за другой порции джина. На соседнем столике стояла шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. А потом что-то случилось с телеэкранами и продолжалось примерно полминуты. Мелодия, строй музыки изменились, и зазвучал… даже трудно описать словами. Такой причудливый, надтреснутый, визгливый и глумливый тон – Уинстон назвал его про себя бульварным. Голос запел:
Эти трое даже не шевельнулись. Но когда Уинстон снова взглянул на Рузерфорда, он увидел, что глаза его полны слез. И тогда он с внутренним содроганием заметил – хотя и не понял, отчего содрогается, – что носы у Аронсона и Рузерфорда перебиты.
Вскоре всех троих опять арестовали. Оказалось, что со дня освобождения они опять участвовали в заговорах. Во время второго процесса они еще раз признались во всех своих старых преступлениях, а также во множестве новых. Их казнили, и судьбу их запечатлели в истории Партии в назидание потомкам. А лет через пять, в 1973 году, Уинстон, разворачивая на рабочем столе пачку документов, выброшенных по пневматической трубке, наткнулся на обрывок газеты, который, видимо, сунули не туда и забыли. Развернув обрывок, он сразу понял, какое важное вещественное доказательство попало ему в руки. Он держал в руках полстраницы «Таймс» десятилетней давности. Это была верхняя половина страницы, с датой, и на ней располагалась фотография делегатов каких-то партийных торжеств в Нью-Йорке. В середине группы выделялись Джонс, Аронсон и Рузерфорд. Их сразу можно было узнать, к тому же под фотографией были проставлены имена.
А ведь на обоих процессах все трое признались, что в тот день они находились в Евразии. Их доставили с секретного аэродрома в Канаде куда-то в Сибирь, на рандеву с представителями Генерального штаба Евразии, где они выдали важнейшие военные сведения. Уинстон хорошо запомнил дату, так как она пришлась на день летнего солнцестояния; тем более что вся эта история получила широкую огласку во множестве изданий. Единственное объяснение такого совпадения состояло в том, что признания на процессах были ложью.
Конечно, само по себе это не было открытием. Уже тогда Уинстон не думал, что люди, исчезавшие в чистках, действительно совершали вменяемые им преступления. Но здесь имелось конкретное вещественное доказательство – осколок переписанного прошлого, вроде ископаемой кости, найденной не в подходящем пласте и рушащей геологическую теорию. Этого было достаточно, чтобы разбить Партию вдребезги, если бы, конечно, удалось донести это открытие до всеобщего сведения и разъяснить его значение.
Не мешкая, Уинстон взялся за дело. Едва увидев фотографию, он понял, что она собой представляет, и прикрыл ее листком бумаги. К счастью, когда он раскрыл газету, фотография оказалась перевернутой по отношению к телеэкрану.
Положив блокнот на колено, он отодвинулся со стулом как можно дальше от телеэкрана. Нетрудно было сохранить невозмутимое выражение лица; если очень постараться, можно управлять и дыханием, нельзя лишь регулировать стук сердца, хотя телеэкраны могли засечь и это. Он просидел так, вероятно, минут десять, умирая от страха, что какая-нибудь случайность – хотя бы внезапный сквозняк – выдаст его. В итоге, не открывая больше фотографию, он сунул ее вместе с ненужными бумагами в провал памяти. Не прошло, наверное, и минуты, как она сгорела дотла.
Все это случилось лет десять-одиннадцать назад. Сегодня он, возможно, оставил бы фотографию у себя. Но даже сейчас, когда и сама фотография, и запечатленное на ней событие остались только в его памяти, ему казалось, что уже факт ее прошлого существования что-то менял. Хотя, подумал он, разве на самом деле контроль Партии над прошлым слабеет, если вещественное доказательство, которого больше нет, когда-то существовало?
Нет, сегодня эта фотография уже ничего не доказывала, даже если бы ее удалось как-то воссоздать из пепла. Когда он сделал свое открытие, Океания уже не воевала с Евразией и три мертвеца должны были бы предавать свою родину агентам Остазии. Кроме того, с тех пор их уже обвинили совершенно в другом. Два, три новых доказательства вины – он не помнил, сколько именно. Наверняка их признания уже много раз переписывали, и теперь первоначальные даты не имели никакого значения. Прошлое не просто менялось, оно менялось непрерывно. Самым кошмарным было то, что он никак не мог понять: зачем совершался весь этот масштабный обман? Сиюминутные преимущества фальсификации были вполне очевидны, но конечная цель оставалась загадкой. Он снова взял ручку и написал:
Я понимаю, КАК это делают, но не понимаю – ЗАЧЕМ.
А может, думал он уже не в первый раз, я сошел с ума? Может, это сумасшествие – быть одному против всех? Некогда безумством считалась вера в то, что Земля вращается вокруг Солнца, сегодня – вера в то, что прошлое неизменно. Вероятно, Уинстон один верит в это, а раз так, то он сумасшедший. Но его не очень это волновало, он боялся другого – вдруг он все-таки ошибается?
Он взял учебник истории и взглянул на портрет Большого Брата на фронтисписе. На него взирали гипнотизирующие глаза. Казалось, какая-то страшная сила сминает тебя, проникает в черепную коробку, давит на мозг и так запугивает, что ты отказываешься от всех убеждений, не доверяешь собственным чувствам. В конце концов Партия объявит: дважды два – пять, и в это придется поверить. Рано или поздно так и будет – вся их политическая логика требовала такого поступка. Ведь партийная философия отрицает не только важность опыта, но и саму реальность внешнего мира. Здравый смысл – вот ересь из ересей. А самое ужасное не то, что тебя убьют за инакомыслие, а возможность их правоты! В конце концов, а откуда мы знаем, что дважды два – четыре? Откуда мы знаем, что существует сила тяжести? Откуда мы знаем, что прошлое неизменно? А если и прошлое, и внешний мир существуют лишь в нашем сознании и наш разум можно контролировать – что тогда?
Но нет! Он почувствовал внезапный и самовольный прилив мужества. Непонятно почему, перед глазами всплыло лицо О’Брайена. Теперь он был абсолютно убежден, что О’Брайен с ним на одной стороне. Он вел дневник для О’Брайена, именно ему и адресовал. Это было бесконечное письмо, которое никто никогда не прочитает, но его адресовали конкретному человеку и придали этим определенную тональность.
Партия приказывает не верить своим глазам и ушам. Это ее главный, самый важный приказ. Сердце Уинстона упало, когда он подумал, какая гигантская силища противостоит ему, с какой легкостью любой партийный идеолог побьет его в споре, какие тонкие аргументы ему выдвинут, вещи, которых он даже не сможет понять, тем более опровергнуть. Однако правда была на его стороне! Прав был он, а не они. Простые, несмышленые, правдивые нуждаются в защите. Простые истины верны – вот за что надо держаться! Есть незыблемый мир, и законы его неизменны. Камень твердый, вода мокрая, предметы, которые ничто не удерживает, притягиваются к центру Земли. Проникшись чувством, что он обращается к О’Брайену и утверждает важную аксиому, Уинстон написал:
Свобода – это свобода утверждать, что дважды два – четыре. Если это дано, все остальное следует из этого.