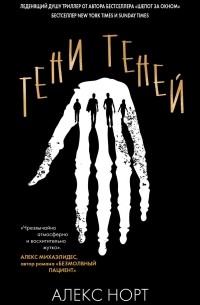Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
Хоспис, в котором умирала моя мать, располагался на территории больницы в Гриттене.
Как по мне – довольно мрачноватое сочетание. На долгом пути по сельским дорожкам я размышлял, почему бы им не поступить по принципу «бог троицу любит» и не пристроить к обоим учреждениям еще и кладбище с ведущим к нему конвейером. Но местность оказалась довольно симпатичной. Сразу за больницей узенькая дорожка лениво отворачивала вбок, огибая тщательно подстриженные газончики, усыпанные яркими цветочными клумбами и усаженные яблонями, а потом переваливала через небольшой мостик с журчащим под ним ручейком. День был жаркий, и я опустил боковое стекло машины. Воздух снаружи был напоен густым запахом свежескошенной травы, а шум бегущей по камням воды словно наполнен жизнерадостным детским смехом – вполне умиротворяющее окружение, чтобы провести в нем последние дни своей жизни.
Через минуту я подъехал к двухэтажному зданию, почерневшие стены которого почти сплошь затягивали густые побеги плюща. Шины захрустели не по обычному гравию, а по укатанной глади из аккуратно обкатанных водой голышей. Когда я вырубил мотор, единственным донесшимся до меня звуком была негромкая трель какой-то птицы, что лишь подчеркивало царящую вокруг полнейшую тишину.
Прикурив сигарету, я еще немного посидел в машине.
Даже сейчас было еще не поздно развернуться и уехать.
На дорогу сюда ушло четыре часа, и все это время я все более ощущал вокруг себя присутствие Гриттена, а порождаемый им подспудный страх усиливался с каждой оставшейся позади милей. Пусть небо и было ясным и чистым, но казалось, что я въезжаю прямиком в грозу, так что я почти ожидал услышать рокот грома вдали и увидеть вспарывающие небо вспышки молний на горизонте. К тому времени, как моя машина катила убогими улицами и унылыми участками промзоны, мимо рядов дышащих на ладан магазинов, фабрик и хозяйственных дворов, заваленных мусором и битым стеклом, мне было уже так тошно, что стоило больших усилий немедленно не развернуть автомобиль.
Теперь я курил, и мои руки дрожали.
Я не был в Гриттене уже ровно двадцать пять лет.
«Все будет хорошо», – сказал я себе.
Затушив сигарету в пепельнице, выбрался из машины и двинулся ко входу в хоспис. Стеклянные двери разъехались по сторонам, открыв чистую минималистичную приемную со сверкающим черно-белым полом. Назвав свое имя у стойки, я немного подождал, вдыхая запах полироля и дезинфектанта. Помимо позвякивания столовых приборов где-то далеко в стороне, в здании было тихо, как в библиотеке, и мне захотелось откашляться – просто потому, что казалось, этого делать нельзя.
– Мистер Адамс? Сын Дафны?
Я поднял взгляд. Ко мне подходила какая-то женщина. Лет двадцати пяти, невысокая, с бледно-голубыми волосами и множеством пирсинга в ушах, в повседневной одежде. Явно не медсестра или санитарка.
– Да, – отозвался я. – А вы, наверное, Салли?
– Да, это я.
Мы обменялись рукопожатием.
– Зовите меня просто Пол.
– Договорились.
Салли провела меня сначала наверх, а потом опять вниз в какое-то больничного вида отделение с тихими коридорами, по пути поддерживая со мной вежливый разговор.
– Как доехали?
– Нормально.
– Давно не бывали в Гриттене?
Я сказал ей. Она явно поразилась.
– Вот так да! У вас тут еще есть друзья и знакомые?
Вопрос заставил меня подумать о Дженни, и сердце слегка скакнуло. Интересно, подумал я, каково было бы увидеть ее после стольких лет.
– Не знаю, – ответил я.
– Наверное, все дело в расстоянии? – спросила Салли.
– Да, пожалуй.
Она имела в виду географию, но расстояние – это не только дистанция между точками на карте. Да, сегодняшняя автомобильная поездка заняла четыре часа, но этот короткий переход по коридорам хосписа показался мне куда длинней. И хотя четверть века – это довольно объемистый и увесистый отрезок истории, я внутренне поеживался. Будто и не было всех этих лет, и то, что случилось здесь, в Гриттене, много лет назад, могло с равным успехом произойти вчера.
«Все будет хорошо».
– Ну что ж, я рада, что вам удалось приехать, – заключила Салли.
– Летом на работе всегда затишье.
– Вы ведь профессор, насколько я понимаю?
– Господи, нет! Да, я преподаю, но не настолько большая шишка.
– Литературное творчество?
– Это одна из дисциплин.
– Дафна очень гордится вами, вы в курсе? Всегда повторяет мне, что в один прекрасный день вы станете знаменитым писателем.
– Я не пишу. – Я немного помедлил. – А она и вправду так говорит?
– Да, именно так.
– Не знал…
Но в последние годы в жизни моей матери вообще было очень много чего, о чем я не знал. Где-то раз в месяц мы могли пообщаться по телефону, но это всегда были короткие разговоры практически ни о чем, в которых она расспрашивала обо мне, а я ей врал, причем сам ни о чем ее не расспрашивал, так что ей врать не приходилось. Она никогда даже не намекнула мне, что что-то не так.
А потом, три дня назад, мне позвонила Салли, социальный работник моей матери. Я и знать про нее не знал. Равно как не знал и том, что мать уже годами страдает от неуклонно прогрессирующей деменции и что более полугода назад ее рак признали неизлечимым. Что в последние недели она настолько ослабла, что ей стало тяжело подниматься по лестнице, и по этой причине ей приходилось почти постоянно обитать на первом этаже своего дома. Что мать категорически отказывалась переселиться туда, где ей будет обеспечен надлежащий уход. Что как-то вечером на этой неделе Салли вошла в дом и нашла ее лежащей без сознания в самом низу лестницы.
Похоже, что либо от тоски, либо потеряв ориентацию, мать сделала попытку подняться на второй этаж, и тело предало ее. Полученная черепно-мозговая травма оказалась пусть и не смертельной, но довольно серьезной, и в результате падения все остальные ее болячки накинулись на нее с новой силой.
Я так многого не знал…
Времени мало, сказала мне тогда Салли. Могу я приехать?
– Дафна в основном спит, – говорила она мне сейчас. – Ей обеспечен паллиативный уход и болеутоляющие, и пока она держится, как может. Но то, как все будет складываться в ближайшие несколько дней… Думаю, она будет засыпать все более часто и на более продолжительные промежутки времени. И со временем…
– Не проснется?
– Совершенно верно. Просто тихо уйдет из жизни.
Я кивнул. Наверное, это была бы хорошая смерть. Поскольку никому ее не избежать, пожалуй, это как раз то, о чем может мечтать любой из нас – тихо уйти во сне. Некоторые убеждены, что и после этого продолжают сниться сны и кошмары, но лично я никогда не разделял эту точку зрения. Мне-то получше большинства остальных известно, что такое происходит в неглубоких стадиях сна, а я всегда надеялся, что смерть – это куда более глубокая стадия.
Мы остановились перед дверью.
– Она в ясном уме? – спросил я.
– Бывает по-всякому. Иногда она узнает людей и вроде понимает, где находится. Но чаще всего все выглядит так, будто ваша мама в каком-то совсем другом месте и времени. – Салли толкнула дверь и понизила голос. – О, вот она, наша лапочка.
Я последовал за ней в комнату, мысленно подготовившись к тому, что сейчас увижу. Но это все равно оказалось ударом. К ближайшей стене была придвинута больничная койка – с колесиками на ножках и всякими рычагами, чтобы менять ее положение. Сбоку к ней было приставлено куда больше всякой аппаратуры, чем я ожидал: тележка с целой батареей мониторов и стойки с прозрачными мешками, из которых тянулись трубки к лежащей под простыней фигуре.
К моей матери.
Я пошатнулся. Я не видел ее двадцать пять лет и теперь, когда стоял в дверях, на миг вообразил, будто кто-то сделал ее восковую модель – но гораздо более маленькую и хрупкую, чем тот образ, что сохранился у меня в памяти. Мое сердце часто задергалось в груди. Ее голова с одного бока была забинтована, и та часть лица, которая оставалась на виду, была желтой и неподвижной, со слегка раздвинутыми губами. Практически несмятые простыни лежали так, как их кто-то уложил, едва позволяя различить контуры тела под ними, и на миг я даже засомневался, жива ли она.
Салли оставалась невозмутимой. Она подошла ближе и слегка наклонилась, изучая мониторы. Я уловил легкий аромат цветов в вазе на столе рядом с аппаратурой, но этот запах неприятно перебивался еще каким-то слабым душком – более приторным и нездоровым.
– Можете посидеть с ней, конечно. – Покончив с осмотром, Салли выпрямилась. – Но лучше все-таки ее не тревожить.
– Не буду.
– Вода – на столе, если она проснется и захочет пить. А если возникнут какие-то проблемы, вон кнопка вызова. – Она указала на ограждение кровати.
– Спасибо, – сказал я.
Уходя, Салли закрыла за собой дверь.
И опять тишина.
Хотя и не полная. Окно рядом с кроватью было приоткрыто, и мне было слышно мирное, усыпляющее жужжание газонокосилки, доносящееся откуда-то издалека. И, поверх него, медленные, глубокие вдохи, которые делала моя мать. Между ними повисали долгие отрезки пустых секунд. Опустив на нее взгляд, я впервые заметил розовый цветочный узор на простынях, и при виде их в голове зашевелились призрачные воспоминания. Цветочки были не такие, какие я помнил с детства, но очень похожие. Салли, должно быть, забрала постельное белье из дома, чтобы мать чувствовала себя здесь в более привычной обстановке.
Я огляделся. Почти такая же комнатка была у меня в общежитии на первом курсе университета: маленькая, но уютная, с собственной ванной комнатой в углу, с письменным столом и шкафом у стены напротив кровати… На столе обнаружилась россыпь всякой всячины. Некоторые предметы имели непосредственное отношение к медицине – пустые флаконы, начатые блистеры с таблетками, клочки ваты, – но другие выглядели более обыкновенно, более знакомо. Пара аккуратно сложенных тряпочек. Очки в открытом футляре. Старая свадебная фотография моих родителей – помню, она красовалась на каминной полке, когда я был ребенком, – теперь тоже была здесь, причем поставленная под таким углом, чтобы матери было видно ее с кровати, если она проснется.
Я подошел к столу. Фото было свидетельством радостного события, но хотя мать на нем улыбалась и светилась надеждой, лицо отца выглядело столь же суровым, как и всегда. Это единственное выражение его лица, которое я помню с детства, – было ли оно освещено светом костров, которые он постоянно разводил на заднем дворе, или же пряталось в тени коридора, когда мы расходились в нем, не обменявшись и словом. Он всегда был серьезен и хмур – человек, недовольный абсолютно всем в своей жизни, – и мы оба были только рады избавиться друг от друга, когда я наконец покинул отчий дом. На протяжении всех этих лет нашего телефонного общения мать ни разу и словом о нем не обмолвилась. А когда он умер шесть лет назад, я не стал приезжать в Гриттен на похороны.
Бросив взгляд на стол, я увидел еще кое-что, чего не заметил сразу, – толстую книгу, лежащую обложкой вниз. Она была старой и потрепанной, а корешок слегка покоробился, словно ее некогда чем-то облили, да так и оставили сушиться в раскрытом виде. Моя мать никогда не была особой любительницей чтения: отец всегда относился к художественной литературе презрительно-насмешливо – как, впрочем, и ко мне и моей любви к ней. Наверное, мать приохотилась к чтению после его смерти и как раз эту книгу читала перед происшествием. Еще один отзывчивый поступок со стороны Салли, хотя казалось излишним оптимизмом воображать, что теперь мать ее дочитает.
Перевернув книгу, я увидел красную, злобно ухмыляющуюся физиономию дьявола на обложке и быстро отдернул руку – кончики пальцев кольнуло, как от ожога.
«Люди кошмаров».
– Пол?
Вздрогнув, я обернулся. Мать проснулась. Перевернулась на бок и оперлась на локоть, чуть ли не с подозрением приглядываясь ко мне одним видимым мне глазом. Волосы ее свисали на подушку тонкой седой прядкой.
Мое сердце забилось слишком быстро.
– Да, – тихо отозвался я, пытаясь успокоиться. – Это я, ма.
Она нахмурилась.
– Тебе… нельзя здесь находиться.
Возле кровати стоял стул. Я медленно подошел и опустился на него. Ее взгляд следовал за мной, столь же настороженно-опасливый, как у животного, в любой момент готового удариться в бегство.
– Тебе нельзя здесь находиться, – повторила она.
Еще секунду мать неотрывно смотрела на меня. А потом ее лицо немного смягчилось, она подалась ко мне и заговорщицки прошептала:
– Надеюсь, хоть Айлин сейчас тут нету.
Я беспомощно оглядел комнату.
– И вправду нет, ма.
– Вообще-то не следовало мне этого говорить… Но мы-то с тобой знаем, что она за гадина! Бедный Карл! – Вид у нее был опечаленный. – И бедный маленький Джеймс… Мы ведь делаем это только ради него, правда? И сам знаешь, по-моему. Нам ни к чему высказывать это вслух, но ты наверняка понимаешь.
«Все выглядит так, будто она в каком-то совсем другом месте и времени».
И это место и время я сразу узнал.
– Да, ма, – произнес я. – Конечно, понимаю.
Она опять осторожно улеглась на спину и прикрыла глаза, прошептав:
– Тебе нельзя здесь находиться…
– Не хочешь водички? – спросил я.
Какое-то время моя мать никак не реагировала. Просто лежала, размеренно дыша, словно вопросу требовалось время, чтобы пробраться по запутанному лабиринту ее сознания. У меня не было уверенности, что он достигнет конечной точки, но в данный момент я не мог придумать, что сказать еще. И тут она вдруг резко очнулась опять, рывком сев на кровати. Переломившись в поясе, протянула руку и ухватила меня за запястье так быстро, что я не успел отпрянуть.
– Тебе нельзя здесь находиться! – выкрикнула она.
– Ма…
– Красные руки, Пол! Красные руки повсюду!
Ее широкие немигающие глаза уставились на меня в совершеннейшем ужасе.
– Ма…
– Красные руки, Пол!
Отпустив меня, она рухнула обратно на подушку. Я встал и, спотыкаясь, немного попятился от нее – на руке у меня остался белый отпечаток от ее стиснутых пальцев, резко выделяющийся на коже. Я представил себе горку-лазалку и землю, запятнанную алым, а ее слова все повторялись и повторялись у меня в голове в такт биению сердца.
«Красные руки, красные руки, красные руки повсюду…»
– Господи, это прямо в доме, Пол!
И тут лицо моей матери мучительно исказилось, и она выкрикнула, обращаясь к потолку – или, может, к чему-то невидимому у нее над головой:
– Прямо в этом чертовом доме!
И в панике, обжегшей все мое тело, я стал лихорадочно нащупывать кнопку вызова.