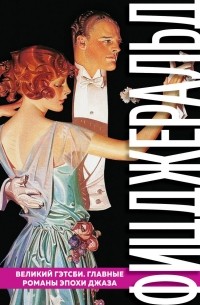Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава девятая
Прошло два года, а я все еще помню остаток того дня, ночь и следующий день как нескончаемое шествие полицейских, фотографов и репортеров, входивших в парадную дверь Гэтсби и выходивших из нее. Натянутая поперек ворот веревка и полицейский при ней останавливали любопытных, однако мальчишки быстро обнаружили, что в поместье можно пробраться через мой двор, и некоторое их количество постоянно толклось, разинув рты, около бассейна. В тот вечер некий весьма уверенный в себе джентльмен, детектив быть может, обронил, склонившись над телом Уилсона, слово «безумец», и небрежная весомость его определила тон статей, появившихся на следующее утро в газетах.
По большей части статьи эти были ужасны – нелепые, обстоятельные, крикливые и полные вранья. Когда Микаэлис сообщил на дознании о подозрениях, которые Уилсон питал насчет жены, я решил, что в самом скором времени газеты обратят эту историю в пикантный пасквиль, – однако Кэтрин, которая наверняка могла рассказать многое, молчала как рыба. Она проявила редкостную стойкость – решительно глядя из-под отредактированных бровей коронеру в глаза, она поклялась, что ее сестра ни разу в жизни не видела Гэтсби, была целиком и полностью счастлива с мужем и никаких шалостей на стороне себе не позволяла. Кэтрин убедила себя в этом и так рыдала в носовой платок, точно любое предположение противного толка превышает меру того, что она способна вынести. И Уилсона объявили – для простоты картины – «помешавшимся от горя». Тем дело и кончилось.
Мне все это представлялось лишним и несущественным. Я оказался на стороне Гэтсби, но только я один. С того мгновения, как я позвонил в деревню Вест-Эгг и сообщил о катастрофе, со всеми предположениями на его счет и со всеми практическими вопросами люди обращались ко мне. Поначалу это удивляло меня и сбивало с толку, но час проходил за часом, Гэтсби лежал в своем доме, бездвижный, бездыханный и безмолвный, и понемногу я начинал понимать, что отвечаю за все, поскольку никто больше интереса к нему не проявляет – я подразумеваю тот напряженный личный интерес, на который каждый из нас имеет, когда приходит конец, невнятное право.
Через полчаса после того, как мы нашли его тело, я позвонил Дэйзи – инстинктивно и без колебаний. Однако она и Том уехали сразу после полудня и багаж с собой прихватили.
– Адреса не оставили?
– Нет.
– А когда вернутся, сказали?
– Нет.
– Какие-нибудь предположения о том, где они, у вас имеются? Как мне с ними связаться?
– Не знаю. Я не могу больше говорить.
Я хотел, чтобы хоть кто-то пришел к нему. Хотел войти в комнату, где он лежал, и успокоить его: «Я вам кого-нибудь добуду, Гэтсби. Не тревожьтесь. Доверьтесь мне, и я кого-нибудь приведу…»
Имя Мейера Вольфшайма в телефонном справочнике отсутствовало. Дворецкий назвал мне адрес его бродвейского офиса, я позвонил в справочную, однако, когда я получил номер телефона, было уже много больше пяти и трубку там никто не брал.
– Позвоните еще раз, – попросил я телефонную барышню.
– Я уже три раза звонила.
– Это очень важно.
– Простите, но, по-моему, там никого нет.
Я вернулся в гостиную и на миг принял столпившихся там государственных служащих за случайных посетителей дома. Однако, когда они откинули простыню и наставили на Гэтсби неподвижные взгляды, в голове моей вновь зазвучал его протестующий голос:
– Послушайте, старина, приведите ко мне кого-нибудь. Уж постарайтесь. Одному мне с этим не справиться.
Кто-то начал задавать мне вопросы, я отделался от него и, поднявшись наверх, стал торопливо рыться в незапертых ящиках письменного стола Гэтсби – он же не говорил мне, что его родители умерли. Однако ничего я там не нашел, только фотография Дэна Коди, символ давно забытых бурных дней, взирала на меня со стены.
На следующее утро я отправил дворецкого в Нью-Йорк с письмом к Вольфшайму с просьбой предоставить необходимые мне сведения и настоятельную просьбу приехать первым же поездом. Последняя казалась мне излишней, пока я писал письмо: я не сомневался, что он помчит на вокзал, едва увидев газеты, как не сомневался и в том, что еще до полудня получу телеграмму от Дэйзи, – однако ни телеграмма, ни мистер Вольфшайм не появились, не появился никто, кроме все тех же полицейских, фотографов и газетчиков. А когда дворецкий вернулся с ответом Вольфшайма, я почувствовал прилив неприязни, презрительной солидарности с Гэтсби, – мы, двое, стояли одни против всех.
«Дорогой мистер Каррауэй! Я испытал самое сильное в жизни моей потрясение, едва смог поверить, что это и вправду случилось. Такой безумный поступок способен заставить призадуматься любого из нас. Я не смогу приехать сейчас, поскольку связан по рукам и ногам одним очень важным делом, да и вмешиваться в эту историю мне не хочется. Если несколько позже Вам потребуется от меня какая-то помощь, дайте мне знать об этом письмом, переданным через Эдгара. Услышав о случившемся, я перестал понимать, на каком я свете, весть эта попросту ошеломила меня, сбила с ног.
А ниже – торопливая приписка:
«Сообщите мне о похоронах и так далее, про его родных мне совсем ничего не известно».
Когда после полудня зазвонил телефон, я, услышав, что меня вызывает Чикаго, подумал: ну вот, наконец, и Дэйзи. Однако в трубке прозвучал мужской голос, тонкий и далекий:
– Это Слэгл…
– Да?
Имя было мне незнакомо.
– Черт знает что, верно? Ты получил мою телеграмму?
– Никаких телеграмм я не получал.
– Молодой Парки попух, – затараторил он. – Взят при передаче облигаций. Они всего за пять минут до этого циркуляр из Нью-Йорка получили, там все номера были указаны. Представляешь, а? В нашем захолустье ни черта заранее не угадаешь…
– Алло! – прервал я его, перейдя на шепот. – Послушайте, это не мистер Гэтсби. Мистер Гэтсби мертв.
Долгая пауза, восклицание… резкий клекот, и связь прервалась.
Помнится, подписанная Генри К. Гэтцем телеграмма из Миннесоты пришла на третий день. В ней значилось только, что пославший ее немедленно выезжает и просит отложить похороны до его появления.
Это был отец Гэтсби, печальный старик, совершенно беспомощный, смятенный, прятавшийся под длинным дешевым пальто от теплого сентябрьского дня. Глаза его слезились от волнения, и когда я отобрал у него саквояж и зонт, он принялся подергивать себя за реденькую седую бородку так часто, что избавить его от пальто оказалось делом непростым. Опасаясь, что он того и гляди свалится с ног, я отвел его в музыкальную гостиную, усадил и попросил слугу принести для него какой-нибудь еды. Однако есть старик не стал, а молоко, стакан с которым он взял трясущейся рукой, расплескал.
– Я узнал обо всем из чикагской газеты, – сказал он. – Там все было. И сразу поехал.
– А я не знал, как вас найти.
Глаза его, ничего толком не видевшие, безостановочно обшаривали гостиную.
– Это дело рук сумасшедшего, – сказал старик. – Он наверняка был сумасшедшим.
– Не хотите немного кофе? – спросил я.
– Ничего не хочу. Я уже пришел в себя, мистер…
– Каррауэй.
– Да, со мной все в порядке. Куда увезли Джимми?
Я отвел старика в гостиную, где лежал его сын, и оставил там. Какие-то мальчишки, поднявшись на террасу, заглядывали в вестибюль, я сказал им, кто приехал, и они неохотно удалились.
Спустя некоторое время приотворилась дверь, и из нее вышел мистер Гэтц – приоткрытый рот, чуть покрасневшее лицо, из глаз капают беспорядочные, редкие слезы. В его годы смерть уже не кажется страшной неожиданностью, и когда он, оглядевшись вокруг, впервые увидел высоту и пышность вестибюля и огромные комнаты, уходящие от него к другим таким же, к горю старика начала примешиваться благоговейная гордость. Я помог ему подняться в спальню наверху и, пока он избавлялся от пиджака и жилета, объяснил, что все приготовления были отложены до его приезда.
– Я не знаю, чего вам хотелось бы, мистер Гэтсби…
– Я не Гэтсби, я Гэтц.
– …мистер Гэтц. Я думал, может быть, вы пожелаете увезти тело на Запад.
Он покачал головой.
– Восток всегда нравился Джимми сильнее. Он и добился-то всего на Востоке. Вы дружили с моим мальчиком, мистер…?
– Да, мы были близкими друзьями.
– Знаете, его ожидало большое будущее. Совсем молодой, а вот тут у него много чего было.
Он важно прикоснулся ко лбу, я кивнул.
– Остался бы жив, стал бы великим человеком. Вроде Джеймса Дж. Хилла. Из тех, что строят нашу страну.
– Это верно, – согласился я, ощущая некоторую неловкость.
Он повозился с расшитым покрывалом, пытаясь стянуть его с кровати, неуклюже прилег – и мгновенно заснул.
В ту ночь мне позвонил явно чем-то напуганный мужчина, пожелавший, прежде чем назваться, узнать, кто я такой.
– Мистер Каррауэй, – сказал я.
– О… – В голосе его послышалось облегчение. – А я Клипспрингер.
Облегчение испытал и я – похоже, Гэтсби будет теперь провожать к могиле еще один человек. Я не хотел помещать в газетах объявление о похоронах, собирать толпу любопытных, и потому позвонил лишь нескольким людям. Дозваться каждого из них к телефону оказалось непросто.
– Похороны завтра, – сказал я. – В три часа, здесь, в доме. Скажите о них всем, кому это интересно.
– О, непременно, – торопливо произнес он. – Конечно, я навряд ли кого увижу, но если вдруг увижу, скажу.
Я заподозрил неладное.
– Сами вы, разумеется, будете.
– Ну, постараюсь, конечно. Я вот почему звоню…
– Минуту, – перебил его я. – Почему же не сказать, что вы приедете?
– Ну, дело в том, что… я, по правде сказать, живу сейчас в Гринвиче, у одних знакомых, а они вроде как рассчитывают, что завтрашний день я проведу с ними. В общем, у нас пикник намечается, что-то такое. Конечно, я очень постараюсь выбраться.
Я невольно выпалил: «Ха!» – и он это услышал, по-видимому, так как продолжил уже несколько нервно:
– Я позвонил потому, что оставил в доме пару туфель. Вы не могли бы велеть дворецкому прислать их мне? Понимаете, это теннисные туфли, я без них как без рук. Мой адрес можно получить у Б. Ф…
Фамилию я не услышал, потому что повесил трубку.
А потом я даже обиделся немного за Гэтсби – один из тех, до кого я дозвонился, дал мне понять, что тот получил по заслугам. Ну, тут уж я сам был виноват, поскольку этот джентльмен принадлежал к числу тех, кто, вдоволь напившись вина Гэтсби, насмехался над ним с особенной злобой, – я мог бы и сообразить, что обращаться к нему не стоит.
В утро перед похоронами я отправился в Нью-Йорк, чтобы увидеться с Мейером Вольфшаймом; никакими иными способами достучаться до него мне не удалось. На двери, которую я толчком открыл по подсказке лифтера, значилось «Холдинговая компания «Свастика», и сначала мне показалось, что в офисе никого нет. Однако после того, как я несколько раз безрезультатно прокричал в пустоту «Эй!», за перегородкой разразился какой-то спор и в конце концов из внутренней двери вышла и окинула меня взглядом враждебных черных глаз миловидная еврейка.
– Здесь никого нет, – сказала она, – мистер Вольфшайм уехал в Чикаго.
Первая часть этого заявления была очевидной ложью, поскольку за дверью кто-то принялся немелодично насвистывать «Розарий».
– Пожалуйста, доложите, что его хочет видеть мистер Каррауэй.
– Я же не могу вернуть его из Чикаго, верно?
Тут голос, несомненно принадлежавший Вольфшайму, позвал из-за двери: «Стелла!»
– Оставьте на столе бумажку с вашим именем, – торопливо произнесла она, – когда вернется, я ему передам.
– Но я же знаю, что он здесь.
Женщина на шаг подступила ко мне и принялась гневно оглаживать ладонями бедра – вниз-вверх.
– Вы, молодые люди, считаете, что можете в любое время врываться, куда вам захочется, – сварливо заявила она. – Сил уже нет никаких. Раз я говорю, что он в Чикаго, значит, он в Чикаго.
Я назвал имя Гэтсби.
– Ох-х! – Она окинула меня еще одним взглядом. – Так вы… как, говорите, вас зовут?
Женщина скрылась за дверью. А миг спустя на пороге ее показался и протянул ко мне обе руки торжественный Мейер Вольфшайм. Он провел меня в свой офис, отметив исполненным благоговейного сокрушения тоном, что времена для всех нас настали печальные, предложил мне сигару.
– Помню, как я познакомился с ним, – сказал он. – Молодой майор, только что из армии, весь в орденах. Бедный до того, что ему приходилось носить мундир, обычный костюм купить было не на что. Впервые я увидел его, когда он пришел, ища работу, в бильярдную Вайнбреннера на Сорок третьей. К тому времени у него дня два уже и крошки во рту не было. «Присядьте, позавтракайте со мной», – сказал я. Ну и он за полчаса уплел на четыре доллара еды.
– И вы помогли ему начать бизнес? – спросил я.
– Помог! Да я, что называется, сделал его.
– О!
– Он был никем, я его, можно сказать, из канавы вытащил. Он мне сразу понравился – приятной внешности молодой человек с манерами джентльмена, ну а когда он сказал, что учился в Оксфорде, я понял: мне от него одна только польза будет. Устроил его в Американский легион, он там мигом в гору пошел. Сразу же провернул одно дельце для моего клиента из Олбани. Мы с ним во всем были неразлейвода, вот так. – Вольфшайм поднял два пухлых пальца.
Я погадал, распространилось ли их партнерство и на проделанный в 1919-м фокус с Мировой серией.
– Теперь он мертв, – помолчав, сказал я. – Вы были ближайшим его другом, и потому я не сомневаюсь, что вы приедете сегодня после полудня на его похороны.
– Хотелось бы.
– Так приезжайте.
Волоски в его ноздрях чуть дрогнули, а глаза, когда он покачал головой, наполнились слезами.
– Не могу… я не могу впутываться в такую историю, – сказал он.
– Да ведь тут и впутываться не во что. Все кончено.
– Когда убивают человека, я не могу позволить себе оказаться хоть как-то причастным к этому. В моей молодости все было иначе, – если умирал, не важно как, мой друг, я оставался с ним до конца. Вам это может показаться сентиментальным, но так и было – до самого горестного конца.
Поняв, что по какой-то ведомой только ему причине он решил на похоронах не появляться, я встал.
– А вы тоже колледж закончили? – вдруг спросил он.
Я решил было, что он вознамерился предложить мне «гонтагты», однако Вольфшайм лишь покивал и пожал мою руку.
– Давайте научимся показывать людям нашу дружбу, пока они живы, а не после их смерти, – предложил он. – Это одно мое правило, а другое – не лезть не в свое дело.
Выйдя из офиса Вольфшайма, я увидел, что небо потемнело, а когда вернулся на Вест-Эгг, уже моросил дождь. Переодевшись, я пошел в соседний дом и застал там мистера Гэтца, взволнованно расхаживавшего по вестибюлю. Его гордость за сына, за богатство сына все возрастала, и теперь ему хотелось кое-что мне показать.
– Эту карточку прислал мне Джимми, – сказал он, копаясь дрожащими пальцами в бумажнике. – Взгляните.
Я увидел фотографию особняка Гэтсби – с трещинками по углам, запачканную прикосновениями множества пальцев. Мистер Гэтц усердно указывал мне одну деталь за другой. «Вот сюда посмотрите!» – и заглядывал мне в глаза, ожидая увидеть в них восхищение. Старик так часто демонстрировал эту фотографию разным людям, что, думаю, она стала для него более реальной, чем сам особняк.
– Это мне Джимми прислал. Очень хорошая карточка, по-моему. Смотреть приятно.
– Да, очень. А вы давно виделись с Джимми?
– Он приезжал повидаться со мной года два назад, купил мне дом, в котором я нынче живу. Конечно, когда он сбежал из дома, мы разругались, но теперь-то я понимаю, у него были на это причины. Он знал, что его ждет большое будущее. И был со мной очень щедр – с тех пор, как добился успеха.
Видимо, ему не хотелось возвращать фотографию в бумажник – он еще с минуту продержал ее перед моими глазами. Но все же вернул и тут же вытащил из кармана старую потрепанную книжку под названием «Хопалонг Кэссиди».
– Вот, посмотрите, он читал эту книгу еще мальчиком. Сейчас вы все поймете.
Он отпахнул заднюю обложку, перевернул книгу, чтобы я мог прочесть написанное на форзаце. Там было отпечатано: РАСПОРЯДОК ДНЯ, под ним дата – 12 сентября 1906. А еще ниже:
Подъем 6.00 утра.
Упражнения с гантелями, перелезание через забор 6.15–6.30.
Изучение электричества и др. 7.15–8.15.
Работа 8.30–4.30 вечера.
Бейсбол и др. спорт 4.30–5.00.
Упражнения в красноречии, осанка и как ее приобрести 5.00–6.00.
Обдумывать, какие изобрете- ния нужно сделать 7.00–9.00.
ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ
Не тратить время на Шефтерса или [имя, неразборчиво].
Больше не курить и не жевать резинку.
Мыться каждый день.
Прочитывать одну развивающую книгу или журнал в неделю.
Откладывать 5 долларов [перечеркнуто] 3 доллара в неделю.
Лучше относиться к родителям.
– Я на эту книгу случайно напал, – сказал старик. – Она многое объясняет, верно?
– Многое.
– Джимми просто не мог не добиться успеха. То такое решение примет, то эдакое, и так все время. Вы заметили, что он про развивающую книгу написал? В этом он разбирался. Однажды сказал мне, что я жру как свинья, так я его поколотил.
И книжку закрывать ему тоже не хотелось. Он прочитал все записи вслух, значительно поглядывая на меня. По-моему, он почти ожидал, что я перепишу их для собственного употребления.
Незадолго до трех из Флашинга приехал лютеранский священник, и я начал невольно поглядывать в окно, надеясь увидеть и другие машины. То же и отец Гэтсби. Но время тянулось, пришли и в ожидании выстроились вдоль стены вестибюля слуги, и старик начал беспокойно помаргивать, говорить что-то невнятное и тревожное насчет дождя. Священник несколько раз посмотрел на часы, я отвел его в сторону, попросил подождать еще полчаса. Без толку. Никто не приехал.
Около пяти наша состоявшая из трех машин вереница достигла кладбища и остановилась под густой моросью у ворот – впереди катафалк, до ужаса черный и мокрый, за ним лимузин, в котором сидели мистер Гэтц, священник и я, а за нами немного отставший моторный фургон Гэтсби с четырьмя-пятью слугами и почтальоном Вест-Эгг – все промокшие до нитки. Когда мы проходили в ворота, я услышал, как затормозила еще одна машина, и кто-то зашлепал, нагоняя нас, по раскисшей земле. Я оглянулся. То был мужчина в совиных очках – тот, что три месяца назад дивился в библиотеке Гэтсби на книги.
С той ночи я его ни разу не видел. Не знаю, откуда ему стало известно о похоронах, даже имени его не знаю. Струи дождя стекали по толстым стеклам его очков, и он снял их и протер, чтобы посмотреть, как из вырытой для Гэтсби могилы вытаскивают и скатывают защищавший ее от воды брезент.
Я попытался думать о Гэтсби, однако он ушел уже слишком далеко, и я вспомнил только, без негодования впрочем, что Дэйзи не прислала ни телеграммы, ни цветов. До ушей моих донеслось невнятное бормотание, что-то вроде: «Блаженны мертвые, на коих падает дождь», а затем Совиноглазый произнес молодецким голосом: «Воистину так!»
Мы торопливо пошли под дождем к машинам. В воротах он заговорил со мной:
– Прямо к дому я не поспел.
– И никто не поспел.
– Да что вы, – испугался он. – О Господи, как же так? Они же к нему сотнями приезжали!
Он снял очки, снова протер стекла снаружи и изнутри и сказал:
– Несчастный сукин сын!
Определенная часть самых живых моих воспоминаний связана с предрождественскими возвращениями на Запад из частной школы, а позже – из университета. Те, кому предстояло ехать дальше Чикаго, сходились в шесть часов декабрьского вечера на тусклом, старом вокзале Юнион-Стейшн, чтобы торопливо попрощаться с несколькими чикагскими друзьями, уносимыми потоком каникулярного веселья. Помню шубки девушек, возвращавшихся домой из пансиона мисс Такой или Этакой, их щебет, парок изо ртов, поднятые над головами ладони, которыми мы помахивали, увидев давних знакомых, помню взаимные приглашения: «Ты к Ордуэям заглянешь? А к Херси? А к Шульцам?» – и длинные зеленые билеты, крепко сжимаемые руками в перчатках. И помню, наконец, стоявшие у перрона мрачновато-желтые вагоны железной дороги «Чикаго, Милуоки и Сент-Пол», казавшиеся такими же веселыми, как само Рождество.
Когда паровоз вытягивал нас в зимнюю ночь, и настоящий снег, наш снег, распростирался вокруг, мерцая за окнами, и тусклые огни маленьких висконсинских станций проносились за ними, воздух внезапно становился резким, девственным, крепким. Возвращаясь из вагона-ресторана, мы в каждом холодном тамбуре вдыхали этот воздух полной грудью, без всяких слов сознавая наше единство со страной – всего на один странный час, а когда он закончится, мы снова растворимся в ней без следа.
Таков мой Средний Запад – не хлеба, не прерии, не затерянные в них шведские городки, но подрагивающие возвратные поезда моей юности, и уличные фонари, и санные колокольчики в морозном мраке, и тени венков из ветвей остролиста, бросаемые льющимся из окон светом на снег. Я – неотъемлемая часть всего этого, немного высокопарная оттого, что память моя хранит те долгие зимы, немного самодовольная потому, что вырос я в доме Каррауэев, в городе, чьи здания многие десятилетия носили имена их владельцев, да носят и сейчас. Я понимаю теперь, что рассказал, в конечном счете, историю Запада: Том и Гэтсби, Дэйзи, Джордан и я – все мы родом оттуда и все, быть может, обладаем одним общим изъяном, который мешает нам с головой уйти в жизнь Востока.
Даже в мгновения, когда Восток волновал меня пуще всего, когда я с особой силой ощущал его превосходство над скучающими, раскидистыми, расползшимися городами, что стоят по ту сторону Огайо и зудят от бесконечных пересудов, щадящих только детей да глубоких стариков, – даже тогда я чувствовал в нем нечто извращенное, перекошенное. Особенно в Вест-Эгг, которое и поныне появляется в самых фантастических моих снах. В них оно походит на ночную сцену Эль Греко: сотни домов, одновременно и привычных, и гротесковых, припавших к земле под вздувшимся, низко нависшим небом и тусклой луной. На переднем плане четверо мужчин во фраках идут по тротуару с носилками, на которых лежит пьяная женщина в белом вечернем платье. Свисающая с носилок рука ее болтается, холодно поблескивая драгоценными камнями. Мужчины производят степенный разворот и входят в дом – не в тот, какой нужен. Впрочем, имени женщины ни один из них не знает, да оно им и не интересно.
Таким начал являться мне после смерти Гэтсби Восток – перекошенным до того, что как ни напрягал я глаза, а выправить его не мог. И когда воздух наполнился голубоватым дымком ломких листьев и ветер начал срывать с веревок зябнувшее после стирки белье, я решил вернуться домой.
Однако перед отъездом мне надлежало докончить одно неловкое, неприятное дело. Возможно, правильнее было бы с ним не связываться, но мне хотелось уехать, все приведя в порядок, не оставить на берегу никакого сора, пусть даже я был уверен, что услужливое, равнодушное море быстро смоет его. И я встретился с Джордан Бейкер, и рассказал ей, что думаю о случившемся с нами и о том, что случилось со мной после, и она выслушала меня, неподвижно покоясь в большом кресле.
Джордан была одета для гольфа, и, помню, я подумал, что она походит на хорошую иллюстрацию к какому-то рассказу, – чуть приподнятый, не без франтовства, подбородок, волосы цвета осенней листвы, лицо такого же смуглого тона, как митенка на лежавшей поверх колена руке. Когда я закончил, Джордан, не снизойдя до комментариев, сказала мне, что помолвлена. Я не поверил ей – хоть и знал о существовании нескольких мужчин, за каждого из которых она могла выйти, просто кивнув ему, – однако притворился удивленным. С минуту, не больше, я гадал, не совершаю ли ошибку, но затем быстро обдумал все еще раз и встал, собираясь проститься.
– Так или иначе, но ты бросил меня, – вдруг сказала Джордан. – Тогда, по телефону. Сейчас мне на тебя наплевать, но тогда это было чем-то новеньким для меня и на недолгое время выбило из седла.
Мы пожали друг дружке руки.
– Да, а помнишь наш давний разговор о водителях? – прибавила она.
– Смутно – а что?
– Ты сказал тогда, что плохому водителю ничто не грозит только до встречи с другим таким же. Ну вот я и встретила другого плохого водителя, так? Я о том, что была слишком неосторожна и оттого сильно ошиблась в моих предположениях. Я считала тебя человеком честным, прямым. Думала, что ты втайне гордишься этим.
– Мне тридцать, – ответил я. – Я уж пять лет как вышел из возраста, в котором человек врет себе и зовет это честностью.
Она не ответила. Рассерженный, все еще наполовину влюбленный в нее, полный огромных сожалений, я ушел.
Как-то в конце октября я увидел на улице Тома Бьюкенена. Он вышагивал впереди меня по Пятой авеню с обычной его настороженной агрессивностью – руки слегка разведены в стороны, словно в готовности сбить с ног любого, кто встанет на его пути, голова резко поворачивается то вправо, то влево, едва поспевая за неспокойными глазами. Я замедлил шаг, не желая его нагонять, но тут он остановился, чтобы окинуть мрачным взглядом витрину ювелирного магазина. И вдруг заметил меня и пошел мне навстречу, протягивая руку.
– В чем дело, Ник? Ты не хочешь пожать мою руку?
– Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
– Ты спятил, Ник, – быстро сказал он. – Спятил ко всем чертям. Не понимаю, что на тебя нашло.
– Что ты сказал в тот день Уилсону, Том? – спросил я.
Он молча уставился на меня, и я понял, что правильно догадался, куда пропал тогда на три часа Уилсон. Я повернулся, намереваясь уйти, но Том шагнул за мной следом и схватил меня за плечо.
– Я сказал ему правду, – начал он. – Уилсон пришел к двери моего дома, когда мы еще готовились к отъезду, я послал вниз слугу, сказать, что нас нет, и тогда он ворвался в дом и силой пробился наверх. Он обезумел настолько, что мог убить меня, если бы я не сказал, чья это была машина. Все время, какое он провел в моем доме, его рука сжимала в кармане револьвер… – Том помолчал, с вызовом глядя на меня. – Ну, сказал я ему, ну и что? Этот малый все равно кончил бы плохо. Он пускал пыль в глаза – сначала тебе, потом Дэйзи, – а на деле-то был бандит бандитом. Переехал Мертл, как собаку, и даже не притормозил.
Я мог сказать ему только одно: ты заблуждаешься, но это было непозволительно.
– И если ты думаешь, что я жил припеваючи… знаешь, когда я приехал в ту квартиру, чтобы отказаться от нее, и увидел на буфете чертову коробку собачьих галет, я сел и зарыдал, как ребенок. Господи, какой это был ужас…
Я не мог ни простить его, ни одобрить, но понимал, что сделанное им было, на его взгляд, полностью оправданным. Бездумность и беззаботность – все беды от них. Они были людьми беззаботными, Том и Дэйзи, они разбивали вдребезги вещи и жизни, а затем возвращались в свой мир денег или безбрежной беззаботности – не знаю уж, что удерживало их рядом друг с дружкой, – предоставляя другим разгребать оставленную ими грязь…
Я пожал ему руку, да и глупо было не пожать, потому что мне показалось вдруг, что я разговариваю с ребенком. И он зашел в ювелирный магазин купить низку жемчуга – а может, всего лишь пару запонок, – навсегда избавившись от моей провинциальной привередливости.
Когда я уезжал, дом Гэтсби еще стоял пустым – трава на его лужайке уже сравнялась высотою с моей. Один из таксистов нашей деревни ни разу не проехал мимо ворот дома без того, чтобы не остановиться на минуту и указать на него своему пассажиру; возможно, это он в ночь, когда случилось несчастье, отвозил Дэйзи и Гэтсби на Ист-Эгг и, возможно, получал теперь удовольствие, рассказывая об этом. Мне его россказни слушать не хотелось, и, сходя с поезда, я никогда в его машину не садился.
Субботние ночи я проводил в Нью-Йорке, поскольку блестящие, ослепительные приемы Гэтсби оставались в моей памяти такими живыми, что я по-прежнему слышал негромкую музыку и непрестанный смех, доносившиеся из его парка, по-прежнему видел снующие по подъездной дорожке машины. А в одну ночь услышал и машину вполне материальную, увидел, как ее огни замерли у парадных ступеней дома. Но выяснять, что там к чему, не стал. Скорее всего, приезжал некий запоздалый гость, проведший какое-то время на другом конце земли и не знавший, что веселье закончи- лось.
В последнюю ночь – чемодан мой был уложен, машина продана хозяину бакалейной лавки – я пошел к дому, чтобы еще раз взглянуть на этого огромного, несуразного неудачника. Какой-то мальчишка куском кирпича нацарапал на белой ступени похабное слово, ставшее особенно отчетливым под светом луны, и я подошвой соскреб его с камня. А потом вышел на пляж и присел на песке.
Огромные береговые дома были уже по большей части закрыты, огни почти нигде не горели, только призрачно светившийся паром медленно шел по Проливу. Луна поднималась все выше, лишившиеся смысла дома таяли в ее свете, и постепенно я начинал понимать, как когда-то расцвел этот старый остров под взглядами голландских моряков, став для них свежей, зеленой грудью нового мира. Исчезнувшие деревья его, деревья, уступившие место дому Гэтсби, когда-то шепотком потакали последнему и величайшему из всех человеческих мечтаний; и на преходящий, зачарованный миг человек, наверное, затаил перед ликом нового континента дыхание, приневоленный к эстетическому созерцанию, коего он и не жаждал, и не понимал, последний раз в истории столкнувшись лицом к лицу с чем-то, соразмерным его способности удивляться.
И сидя там, размышляя о давнем, неведомом мире, я вдруг представил себе, как поразился Гэтсби, впервые увидев зеленый огонек, горевший на краю причала Дэйзи. Долгий путь прошел он, чтобы попасть на свою голубую лужайку, и мечта его, надо думать, казалась ему такой близкой, что потерпеть неудачу в попытке ухватить ее было попросту невозможно. Он не знал, что она уже осталась у него за спиной, где-то там, в лежащей за Нью-Йорком бескрайней тьме, среди раскинувшихся в ночи полей Америки.
Гэтсби верил в зеленый огонек, в оргастическое будущее, что год за годом отступает от нас. Да, оно не дается нам в руки, но это не важно – завтра мы и побежим быстрее, и руки протянем дальше… И в одно прекрасное утро…
Так мы и бьемся, лодки, идущие против течения, и оно неустанно относит нас в прошлое.