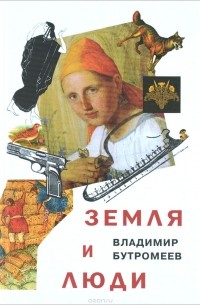Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XXXVII. Положение Рясны относительно сторон света
Ряснянцы – жители самой Рясны, за исключением тех, кто, прожив в Рясне некоторое время, покидал ее и больше не возвращался, или жил иногда и долго, а то и всю жизнь, но собирался, как только представится возможность, уехать – делились на новопришлых, тех, кто откуда-то прибыл и осел навсегда, и старопришлых – тех, кто родился в Рясне от когда-то прибывших, приехавших или пришедших пешком.
Болотное происхождение названия Рясны задевало старопришлых. А новопришлые воспринимали это толкование безразлично, словно не принимая на свой счет, они-то и польщались на кажущуюся понятность и ясность объяснения названия от слова «ряска».
Рясна помещалась в центре ряснянской округи, километрах в трех-четырех от хуторов (от поселка Вуевский Хутор)*.
* Неточность расстояния объясняется тем, что измерение расстояний между селами и городами ведется от разных точек. Проще всего было бы измерять от центра одного города до центра другого и до центра села, деревни и хуторского поселка. Но людей, живших в городах (а тем более в селах, деревнях и на хуторах), мало интересовали расстояния, отделявшие их от соседских городов, сел, деревень и хуторов. Эти расстояния больше всего доставляли хлопот тем, кто, обычно не по своей воле, а по какому-нибудь принуждению, трясся в кибитке почтовым трактом или скользил по этому тракту на полозьях, без изнуряющей однообразием тряски, но то и дело поплотнее укутываясь в шубы и тулупы, что тоже не всласть.
Вот они-то и помнили каждую версту, они-то и следили за их чередованием, за мельканием полосатых столбов, специально для этого расставленных по дорогам, они-то и завели обычай считать эти версты от почтовых станций, где приезжающие и проезжающие усаживались в кибитку на колесах или в возок на полозьях, а не от геометрически определенного центра, установленного знающими людьми с помощью циркуля и линейки, любимых приспособлений древнего грека Евклида.
А расстояния, которые измерялись не по почтовым трактам, а по проселочным дорогам, определялись еще вольнее: то от порога до порога, то от околицы до кабака или до базарной площади.
Расстояния внутри ряснянской округи доходили до десяти – пятнадцати километров, а за пределами округи расстояния заменялись на направления, а дальше – на представления.
Рясна помещалась посредине дороги. Дорога в одну сторону шла на запад – следом за заходящим солнцем (когда солнце начинало клониться с высоты небосвода), а в другую сторону дорога тянулась на восток, ориентируясь на восходящее солнце, отскакивающее как мяч от горизонта летом и медленно, сонно пробирающееся через плотные серые ватные облака зимой, окрашивая их в сердито красные тона и обещая тем самым морозный день.
На запад дорога шла на Могилёв, дальше – на Варшаву (потом между Могилёвом и Варшавой возник Минск, и тоже много что значил), а за Варшавой – на Берлин, там был немец с его железом, добротным инструментом, порядком, аккуратностью и чистотой, ратушами на торговых площадях, Магдебургским правом, грабежами и пожарами войны и убийством всех, кто сопротивляется, а за ним еще и Париж, с его тонконогими девицами, легко согласными обласкать любого, кто заплатит им хотя бы самую мелкую монетку, и с Наполеоном в 1812 году.
На восток дорога, миновав Мстиславль, уходила в поля, пряталась в леса и шла себе на Смоленск – туда гоняли скот скупщикиевреи (пока Данилов не забрал в свои руки всю торговлю скотом), а дальше были Вязьма и Можайск и, наконец, Москва. За Москвой, где-то далеко-далеко лежал Китай, в нем жили китайцы – люди с узкими прищуренными глазами, в шляпах из рисовой соломы.
Не на западе и не на востоке, а неизвестно где находился город Вавилон. О нем было известно из-за случавшегося там столпотворения – собрания толп народа, по-видимому, в воскресный день на базарной площади. Аким из Зубовки много раз называл Вавилоном* Рясну, и потому все знали о его существовании.
* В Вавилоне, по-видимому, люди бессовестно обманывали друг друга, особенно когда продавали поросят: кормили их молоком с сахаром, чтобы они казались упитанными, розовыми и веселыми, и потому плохо ели толченую картошку, мужики напивались в кабаке и в чайной и валялись пьяные на земле, что в грязи осенью, что на снегу зимой, бабы приторговывали самогоном и обирали пьяных, а они так и смотрели, как бы залезть к бабам под юбку своими корявыми ручищами. Все это случалось и в Рясне, и это выводило из себя Акима из Зубовки, и он проклинал Рясну и Вавилон и уходил с базарной площади, призывая громы небесные и землетрясения на весь людской род.
Где-то за Москвой был и город Бухара – о нем и о его базаре рассказывал осевший в Рясне после тюрем и лагерей Илдаш, узкоглазый, но не тонкий и улыбчивый, как китайцы, а круглый, с плотоядными уголками губ, с неспешной крадущейся походкой убийцы. И еще где-то там была Сибирь, из которой нет возврата, куда ссылали по приговору деревенского «мира» конокрадов и поджигателей, а потом, после Погромной ночи, справных хозяев, кого не убили сразу, тех, которые не сумели откупиться в сельсовете и не верили, что у них отберут землю, коров, коней, избы и одежду получше и под конвоем погонят в Мстиславль, а потом в Оршу, потому что там железная дорога, а по ней в товарняках в эту самую безвозвратную Сибирь*.
* Безвозвратную, потому что из нее никто не возвращался живым; это декабристы, те, которые хотели в декабре убить самого царя, вернулись, им разрешил царь, простив их по давности лет и по отходчивости доброго царского сердца, а еще потому, что жены у них были французского происхождения и не могли привыкнуть к морозам, неслыханным и невиданным во Франции, а из справных хозяев ряснянской округи не вернулся ни один.
Вернулся только зубовский плотник, по прозвищу Младший Брат, тот самый, которого любила Стефка Ханевская, к ней он и вернулся, сбежал, но, во-первых, не надолго – дня на три-четыре, во-вторых, он и не был справным хозяином, а в-третьих, его возвращение – это исключение, нужное только для того, чтобы подтвердить общее правило, и поэтому, несмотря ни на возвращение декабристов, ни на побег Младшего Брата, Сибирь как была, так и осталась безвозвратной, то есть это такое место, откуда нет возврата, если тебя туда сошлют, отвезут, отобрав перед этим все, что у тебя есть, даже полушубок, как у отца поэта Твардовского*, за что поэт и застрелил потом Сталина из браунинга, который ему как-то подарил земляк, рядовой солдат, такой же «смоленский рожок», как и сам Твардовский.
Москва сама по себе, как и Рясна, занимает срединное положение. На запад от нее раскинулись разные города, чаще людные, на восток – теснятся страны и местности, тоже часто населенные разными людьми. Особенно хорошо заметно срединное положение Москвы на глобусе – круглой модели Земли, которая имеет ряд преимуществ перед плоским, искаженным изображением на карте.