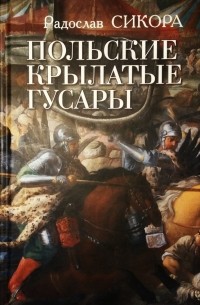Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Мотивация
Польские ученые, первые и единственные в мире, составили полный список типов характеров. Он охватывает 2 621 440 типов, из которых в практических целях выделяют 18 основных, три вида так называемого динамизма характера и шесть видов мотивации. Ниже обратимся к последним.
Мотивация, иначе говоря, раздражитель, который благодаря существующей во время его действия общественной норме вызывает реакцию (действие). Можно выделить:
1. Мотивации познавательные, которые побуждают стремление к сбору, переработке и распространению информации. К людям с познавательными мотивациями можно отнести большинство пионеров науки, большую часть журналистов, а также иных людей, «любящих познавать»;
2. Мотивации витальные, в силу которых люди стараются заботиться о своем здоровье, стремятся к долгой и безопасной жизни, хотят «воспользоваться» ее благами, при этом интересуют их главным образом временные удовольствия биофизического характера;
3. Мотивации экономические, которые обусловливают желание разбогатеть. Часто их путают с мотивациями витальными, поэтому «нужно […] объяснить, что та часть заработка, которая предназначена для совершения покупок, необходимых для выживания, относится к витальным раздражителям, и только деньги, превышающие данную сумму и предназначенные на иные цели, – это раздражители экономические»;
4. Мотивации идеологические, которые приводят к тому, что люди, подчиняясь определенной идеологии, стремятся подчинить ей и других людей;
5. Мотивации этические. Мотивированный таким образом человек действует согласно своей внутренней убежденности в том, что поступает этично, поскольку в процессе воспитания ему была внушена система разрешений и запретов, разделяющих различные явления и поведения на добрые и злые;
6. Мотивации юридические, которые отличаются от этических мотиваций тем, что человек организует свои действия в соответствии с нормами права. К следованию данным нормам человека обязывает не столько внутренняя уверенность в их правоте (что характерно для мотиваций этических), сколько стоящий за правом аппарат принуждения.
В обществе существуют группы людей с различными типами мотиваций. Впрочем, и каждый конкретный человек поддается действию различных раздражителей. Поэтому людей можно мотивировать различными способами, хотя и с разной силой. Несмотря на это, понимание, какая из мотиваций доминирует как у группы, так и у конкретной личности является важным для правильной организации процесса руководства людьми. Армия в этом случае не является исключением, поскольку одного приказа недостаточно.
Ключевым условием функционирования любой армии является требование выполнить приказ. Это, в свою очередь, часто влечет за собой опасность, что тот, кому отдали приказ, может лишиться жизни. Если такой приказ будет отдан людям с доминирующими витальными мотивациями, возникнет фундаментальный конфликт. Как человек, для которого его жизнь и здоровье являются самым важным, должен выполнить действия, которые могут подвергнуть опасности его жизнь или сделать его калекой?
Во время формирования массовых армий по призыву этот конфликт решали весьма жестоко. Солдат вынужден был больше бояться своего начальника и телесных наказаний, которые бы постигли его в случае неисполнения приказа, чем риска лишиться здоровья или жизни на поле боя. Возьмем для примера российскую армию XVIII–XIX веков (до реформы 1874 года), в период, когда Россия была одним из сильнейших государств в мире. Ряды армии в то время были полны людьми с сильными витальными мотивациями, однако вместе с тем, благодаря риску, который нес в себе отказ от исполнения приказа, армия была хорошо дисциплинированна. Уже сам процесс обучения рекрутов базировался на неслыханно жестких принципах. Их описал Юлиан Ясеньский – поляк, служивший в царской армии. На одном из этапов обучения: «Командир роты, получив транспорт с рекрутами, делит их на десятки, а передавая ефрейтору каждый такой десяток, говорит: “Получи, бей их, но учи”. Через шесть месяцев у ефрейтора оставалось только двое или трое рекрутов, зато обученных. Командир роты экзаменует рекрутов и, довольный, хвалит усердие ефрейторов, говоря снова: “Двое ученых стоят больше, чем десять неученых”. Оставшаяся же часть команды ефрейтора перенеслась в вечность. Были это времена Николаевские [умершего в 1855 году царя Николая I], а он сам говорил: “За одного битого семь небитых дам”».
Поэтому ничего удивительного в том, что согласно официальной статистике в 1826–1850 годах небоевые потери российской армии в 35 раз превышали боевые!
Массовые армии по призыву были типичными для XVIII и XIX веков. Однако в течение двух предыдущих столетий, прежде чем были введены такие жестокие методы обучения и поддержания дисциплины, наиболее ценным компонентом большинства (если не всех) европейских армий были наемные солдаты. Их преимущество перед призывниками состояло в том, что они шли в армию добровольно. Наемники не дезертировали, что, в свою очередь, было бедствием в армии, набранной по призыву. Ментальность наемников хорошо показывает воспоминание одного из них – Иеронима Кристиана Хольстена. Он писал, что лучшим солдатом был тот, кто мог лучше воровать, и что каждый рейтар жил надеждой добыть мешок дукатов. Подобного типа людям было безразлично, кому они служат, – при условии, что они на этом неплохо зарабатывали. Сам Хольстен, будучи немцем, сражался на шведской службе против Польши, затем в польской армии против шведов, венгров, россиян и татар. Позднее в качестве солдата епископа Мюнстера он бился с голландцами, чтобы затем как солдат на службе Дании вновь биться со шведами. Хольстен также пробовал наняться в войска французского короля. Таким образом, Хольстена характеризовало решительное преобладание экономической мотивации. Для многих, подобных Хольстену наемников, главной ценностью были деньги. Необходимо, однако, добавить, что среди наемников встречались и люди с доминирующими витальными мотивациями. Живя в крайней бедности или будучи гражданским человеком, но находясь под большей угрозой, нежели солдат, они шли в армию, которая давала им шанс продолжить жизнь и хотя бы временно «использовать» ее блага, что позволяло обычно довольно свободное отношение солдат к гражданскому населению.
Гусарские товарищи, то есть обладатели почта, также были наемными солдатами. Они добровольно являлись в армию, однако диаметрально отличались от людей с витальными и экономическими мотивациями. Товарищи были людьми богатыми, поэтому военная служба не была для них единственным шансом выжить. Не было у них также ментальности «псов войны», для которых имела значение только выгода. Разительное отличие между типичными солдатами, служащими за жалование только ради денег, и товарищами народного призыва подчеркивает Шимон Старовольский: «Спаси, Боже, сынов коронных от того, чтобы они наравне с безбожными чужеземными солдатами могли говорить “Потому что мы правы и если дьявол нам будет платить, то ему служить будем”».
Товарищи были ценнейшим компонентом гусарии и придавали ей соответствующий фасон. О них мы и больше знаем, поскольку, будучи людьми неплохо образованными, они часто оставляли после себя воспоминания. Это их обычно имели в виду, когда писали о гусарии, поскольку почтовой и свободной челяди посвящалось значительно меньше внимания. Что же их направляло? Прежде чем мы перейдем к данному вопросу, давайте посмотрим, кого в качестве солдата считали наиболее ценным. Станислав Ираклиуш Любомирский, который был гусарским ротмистром, считал так: «Необходимо большое благоразумие и умение в процессе найма и набора людей на войну. Лучшими всегда являются те солдаты, которые наняты на своей собственной земле, особенно шляхта, которые, собираясь на войну, больше жаждут славы и повышения или получения должности, чем жалования. А еще лучше, когда такие люди нанимаются под команду кого-то великого, хорошо им знакомого и умеющего быть благодарным. Такие не только с руками и ногами, но и с сердцем и страстью идут на войну. Хоть бы им чего и недоставало, они легче это стерпят и вернейшими будут, на равных с вождем будут хранить свою фортуну, лелеять с ним одну общую надежду, добиваться славы для одного и того же народа, а не думать только о жаловании и о том, чтобы, одержав победу, разойтись. В самом деле, один такой солдат может биться с десятком, а порой и десяти против одного такого недостаточно».
Именно таких людей старались брать на службу в польскую кавалерию. Такие люди становились гусарскими товарищами, благодаря чему польская армия была одной из лучших в Европе: «Существуют такие народы, которые не нуждаются в найме солдат из других государств, поскольку в достатке имеют необходимое количество солдат среди своих граждан. Данные народы являются счастливыми, поскольку солдат, происходящий из своего же народа, является самым верным, а его неудача становится общим поражением. В случае же, если такой солдат является еще и шляхтичем, не может быть никого прекраснее, беззаветнее и мужественнее, чем он, поскольку такой солдат знает, что в случае победы его ожидает еще большая честь и слава. Снаряжение и конь у такого солдата также должны быть лучшими, поскольку он является богатым человеком, и служить должен в соответствии со своим достоинством. Таким образом, лучшим войском является то, которое, если это возможно, состоит из одного народа и в котором в кавалерии служит шляхта, а в пехоте простонародье. Именно поэтому нет в Европе войска лучшего, нежели польское, поскольку именно в Польше придерживаются описанных выше принципов».
Другим гусарским ротмистром был Ян Доброгот Красиньский, который принял участие в венской кампании 1683 года. По ее завершении он утверждал, что солдат из Короны (Польши) «за свой счет служит». Затем повторял, что польское рыцарство в кампании 1683 года «без жалованья, за свой счет» в поисках славы и от любви к отчизне выступило, «поскольку за это вернейшая каждого ждет награда в небе от Бога, чем на земле от человека».
Как вышеприведенные источники, так и ряд других подтверждают, что хоть гусарские товарищи и любили пользоваться современными им благами, хоть не чуждо им было стремление увеличить свое состояние, однако не доминировали у них мотивации ни витальные, ни экономические, ни тем более познавательные, а лишь этические и идеологические. Происходили они не от распоряжений, а от воспитания, от глубокой уверенности, что шляхтич создан для битвы, что именно битва делает из него дворянина и определяет его положение в обществе и государстве. Поэтому такой шляхтич, зная, что шансы на получение какой-либо материальной выгоды на войне невелики, добровольно приносил в жертву не только свое состояние, но и рисковал своей жизнью.
Из этого следовали определенные последствия. Людьми с такими мотивациями нельзя было командовать так же, как личностями с доминирующими мотивациями витальными (силой) или экономическими (деньгами). В государстве, представляющем собой модель латинской цивилизации, нельзя было и управлять гусарским товарищем посредством не согласующегося с этикой права. Это также не имело смысла и с людьми с доминирующими этическими, а также идеологическими мотивациями. В латинской цивилизации право является только отражением этики. Оно должно было вытекать из нее. Попытка создания неэтичного права закончилась бы бунтом.
Как же тогда управлять такими людьми? Во-первых, соответствующим воспитанием, а во-вторых, сообразным с ним отношением.
К самоотверженности призывали, «ссылаясь на любовь к Богу и отчизне», а также личным примером. Самой страшной карой была не смерть, хотя и такая бывало применялась, а утрата жизни и чести (доброго имени). Такое наказание предусматривалось за уклонение от конной битвы или за начало грабежа до окончания сражения.
Как лишить гусара желания сражаться?
Подобающее отношение к гусарским товарищам являлось основным фактором, влияющим на их участие в битве. Однако порой об этом забывали, и в результате возникали серьезные проблемы. Так, на рассвете 20 августа 1610 года планировалось взять штурмом Смоленск. Однако к этому не было сделано необходимых приготовлений. Хоть командующий войском Сигизмунда III Вазы воевода Брацлавский Ян Потоцкий позаботился о том, чтобы оказать соответствующие почести ротмистрам – 19 августа он попросил их подать декларации о том, кто из них готов участвовать в пешем штурме, – однако не сделал этого в отношении гусарского товарищества. В результате 20 августа «[…] когда уже наступило время штурма, товарищество из многих рот взбунтовалось, с коней сойти не желало, будучи недовольно тем, что их об этом предварительно не просили».
Как же разобрались в данной ситуации? Не было другого выхода, кроме как просить товарищество, чтобы оно сошло с коней, что превышало их обыкновенную повинность, и присоединилось к остальным. Длилось это долго и потребовало вмешательства не только самого Потоцкого, но также маршалка Великого княжества Литовского Кшиштофа Дорогостайского и других высокопоставленных людей. Хороший пример подали ротмистры, которые: «[…] выражали охоту пойти на штурм и сильно помогли пану воеводе [Брацлавскому Яну Потоцкому] в том, что товарищи сошли с коней».
В результате товарищество дало себя уговорить: «Такие горячие просьбы помогли одержать победу, в результате чего, сойдя с коней, пошли [товарищи] в окопы […]».
Однако этот день был потерян. Было уже поздно и вдобавок к этому обороняющие Смоленск московиты узнали о готовящемся штурме. В результате штурм был перенесен на 21 августа.
Телесные наказания в отношении гусарских товарищей предусмотрены не были, хотя их применяли к челяди и солдатам, призванным из плебейского сословия, среди которых доминировали витальные мотивации. Товарищам назначались наказания посягающие прежде всего на их честь (нахождение под арестом, изгнание из войска и т. д.), а иногда на финансы.
Такое почетное отношение не ограничивалось только просьбами, подачей примера и использованием подходящих для доминирующей мотивации наказаний. Означало оно также обеспечение гусарскому товариществу очень высокой позиции в социальной иерархии посредством назначения на должности, а в военной – статусом, высшим, чем у генерала пехоты войск иноземного типа. Ожидали их также соответствующие заслугам и ожиданиям (доминирующей мотивации) награды. Среди последних случались, правда, и денежные вознаграждения, и материальные (например, земельные пожалования), однако абсолютное большинство из них – это уже ранее упомянутые назначения на должность. Здесь необходимо пояснить, что в давней Польше должности лицу их занимающему в основном приносили только почести, поэтому правильнее их было считать званиями, чем должностями. Сановникам не платили пенсий. За исключением должности старосты, занятие какой-либо должности не было связано с реальными материальными благами, а часто требовало от занявшего должность шляхтича немалых финансовых затрат. Однако именно титулы, поднимающие престиж человека, были предметом всеобщего желания.
За нетипичные действия, например сражение в пешем строю, на которое гусары не обязаны были соглашаться, а особенно за серьезный успех, такой, как победа в сражении, гусар необходимо было поблагодарить. Хотя бы только устно. Это ничего не стоило, однако поднимало самооценку рыцарей; благодаря этому они чувствовали, что пролитая ими кровь и понесенные расходы оценены, и это мотивировало их к дальнейшему несению службы.
Императорское оскорбление.
Император Леопольд I не участвовал в освобождении осажденной турками Вены в 1683 году. Столицу его государства лично спасал король Ян III Собеский. Польский король, равно как и его войско, ожидали после успешной битвы знаков императорской благодарности. Между тем первая встреча монархов, которая состоялась 15 сентября 1683 года, прошла в атмосфере небольшого скандала. Когда императору представляли королевского сына, гетманов и польских сенаторов, тот не соблаговолил даже поднять руку к шляпе, чтобы хотя бы сделать вид, что он ее снимает. Собеский, видя это, просто окаменел. Однако, не желая дать императору сатисфакции, а его окружению поводов к смеху, сказал еще несколько слов, после чего отъехал. В это время по желанию Леопольда I его проводили перед строем польской армии. Император: «[…] видел наше войско, которое было весьма опечалено и громко жаловалось на то, что их труд и потери не были награждены по крайней мере снятием шляпы».
Когда данные рекомендации выполнялись, то есть, когда к гусарскому товариществу относились соответственно, ряды гусарии заполняли рыцари, которые шли на войну не по приказу, а по зову сердца, а на ней «бились как львы».