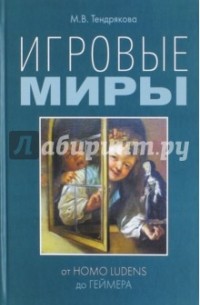Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Символика потустороннего мира в игре
Через игру не только люди обращаются к духам и предкам, вопрошают высшие силы, но и сами эти силы «по своей инициативе» вступают в контакт с людьми. И эта идея активно культивировалась архаичным сознанием. Именно поэтому древние игры изобилуют персонажами и символикой загробного мира. Ряженые, страшные пугающие, уродливые – «страшные наряжонки» – представляют гостей с того света. «Белая баба» – огромная женская фигура на ходулях с распатланными искусственными волосами – сама смерть, пожаловавшая на праздник (Морозов, Слепцова 2004: 572–574).
Святки, приуроченные ко дню зимнего солнцеворота, по В. Я. Проппу, некогда представляли собою поминки и были посвящены культу предков, в XIX в. кое-где еще сохранялся святочный обычай «возжигать» костры и «греть родителей» – звать покойников греться. Изначально вокруг таких костров стояли молча, хороводов не водили, не плясали, считали, что «обогревание» важно для получения хорошего урожая (Пропп 2000: 18–22). В этом контексте игры с «покойником» входили в обязательный набор святочных игр. Сюжетная канва таких игр сводилась к пародийным похоронам «покойника» / «умруна» / «мертвеца» / «смерти». Один из святочных ряженых изображает «покойника»: лицо забелено мукой, сам завернут в полотнище, «саван», в рот вставлены страшенные зубы из картошки или репы. «Покойник» мог являться голым, в рванье, завернутым в рыболовную сеть. Его шуточно под матерные припевки отпевали, кадя подожженным навозом в «кадиле» из лаптя или горшка (Морозов, Слепцова 2004: 559–572, 761). Участников этой игры заставляли с ним прощаться: «Девок заставляют целовать покойника в губы… (на «поминках») Парень, наряженный девкой, угощает девиц шаньгами – кусками мерзлого конского помета» (Максимов, цит. по: Пропп 2000: 82). Иногда «покойник» вскакивал и принимался гоняться за девками и детишками, иногда вел себя агрессивно эротично (Морозов, Слепцова 2004) – игровой вариант воплощения древнейшего мотива смерти и воскрешения.
Игра со смертью порою заходила столь далеко, что зафиксированы случаи, когда подобную игру затевали во время бдений над настоящим покойником, били мертвеца, «будили» его и призывали поймать кого-нибудь из играющих, или требовали угадать, кто мертвеца сейчас ударил (Богатырев 1996; Гаврилова 2005). Более того: «иногда вынув из гроба случившегося тут покойника, ущемляли в его зубах лучину и ставили его в угол светить» (Зеленин, цит. по: Пропп 2000: 82).
Несомненное сходство с игрой в «умруна», по В. Я. Проппу, имеет Масленица, а также похороны Костромы, проводы русалок на русальную неделю, торжественное выбрасывание наряженной и украшенной троицкой березки – всё это тоже похороны мнимого покойника, и что важно, «похороны под смех». По В. Я. Проппу, по своему исконному смыслу они восходят к некогда существовавшим продуцирующим обрядам. Растерзанная и выброшенная антропоморфная кукла или одетое в человеческую одежду деревце являют собою средоточие растительных сил, которые высвобождаются и передаются земле (Пропп 2000: 86–123).
Н. Н. Велецкая предлагает иную трактовку «похорон под смех». В ритуальных похоронах, превращенных в игровое действо, согласно Н. Н. Велецкой, нашел свое отражение давно ушедший из жизни обряд добровольной смерти – проводов на тот свет стариков, которые в качестве загробных представителей должны были позаботиться о предотвращении всяческих катастроф и благополучии общины. Умерщвление при признаках наступающей старости имело место, видимо, лишь в глубокой древности, в праславянской или раннеславянской общности, и до наших дней память о нем сохранилась лишь в виде отдельных упоминаний в летописях и сказках с неизменным осуждением такого отношения к старикам, в виде поговорок и различных фольклорных текстов, а также в виде ритуальных игрищ.
Сюжет почетного и торжественного убиения игрового персонажа как отголосок существовавшего некогда человеческого жертвоприношения фигурирует во многих календарных праздниках славян: «похороны Кузьмы и Демьяна» на 1 ноября по старому стилю; сжигание Масленицы в конце зимы; потопление чучела в дни проводов весны или сжигание Мары в купальских кострах; похороны Костромы, Ярила, Кострубуньки. Во всех подобных обрядах чучелу или кукле сперва выказывают всяческие знаки внимания, его наряжают и украшают, с песнопениями провозят или проносят по деревне, устраивая шествие или целый поезд из телег, водят вокруг него хороводы, кланяются ему, иногда вокруг него разыгрываются символические сражения, одни участники действа его защищают, другие нападают и похищают. Потом торжественно и прилюдно чучело сжигают, или топят в реке, или несут в лес, где вытряхивают из него солому и устраивают на ней веселые пляски (Велецкая 1978: 81–138). По Н. Н. Велецкой, эти игровые фигуры изображают стариков, отправляемых «посланцами» в мир обожествленных предков. Такое понимание ритуальной первоосновы «похорон под смех» не противоречит общим представлениям об их связи с аграрной магией в широком смысле – как заботе о прокреативных силах природы и благоденствии людей.
Игры на сюжет похорон многолики и разнообразны, они вплетаются в календарную обрядность не только славян, но и других народов Европы, перекликаются с древнейшими мифами об умирающих и воскресающих богах, Озирисе и Адонисе (Пропп 2000; Морозов, Слепцова 2004).
Игровая символика смерти может быть не столь прозрачной, как в игре в «покойника» или в «белую бабу». Явившийся с того света предок может иметь звериное обличье. Его зооморфными ипостасями выступают волк, коза, бык, лошадь, а чаще всего медведь. Ряженый «медведем» – один из самых постоянных участников свадеб, зимних и весенних празднеств. В наиболее архаичных забавах «медведя» вначале восхваляют, обращаются к нему с просьбами, всячески намекают на его сексуальную мощь, потом «убивают», начинают снимать с него шкуру, расстегивают надетый мехом наружу тулуп, а там – голый (Морозов, Слепцова 2004: 239–243; 575–585).
Здесь снова игра имитирует жертвоприношение как один из возможных путей общения с предками. Традиционные игрища населены персонажами с того света, только в игре их не боятся, над ними смеются.
Даже в самых разнузданных эротических играх с заголением (в старых деревенских) то и дело фигурируют «покойники», «старики», «старухи» и прочие гости с того света (Морозов, Слепцова 2004: 612–619). Они вымазаны сажей, одеты в устрашающие маски и странные одеяния, в звериные шкуры или рванину, косматые, кудлатые, заголяются, кувыркаются, изображают разных животных – всё это знаки «потусторонности». К этим же знакам относится нарочитая слепота некоторых игровых персонажей (игры с завязанными глазами, с узнаванием вслепую). Слепота – это классический атрибут обитателей того света (см.: Пропп 1986). Такими же признаками выступают демонстративная нагота или гипертрофированные искусственные гениталии, гигантский рост или неимоверная тучность, недозволительные действия, скабрезность произносимых текстов – всё это акцентирует кардинальное отличие ряженых персонажей от обыкновенных людей. Не-людям можно не знать приличий, быть бесстыдными и сверхэротичными. Потусторонний мир мыслился как альтернативный повседневному, поэтому присутствие его представителей угадывается по инверсированным образам и действиям. Знаками инверсированного иного мира также могут быть «многошвейная», составленная из лоскутов одежда или одежда, надетая наизнанку, мехом вверх, задом наперед, ногами в рукава. (В подобном виде могли ходить если не ряженые, то только юродивые. Юродивый, конечно, не предок с того света, но он сознательно противопоставляет себя этому миру.)
Игровые персонажи следуют законам антиповедения (понятие, введенное Д. С. Лихачевым. Лихачев и др. 1984). Например, демонстрация срамных частей тела вместо пристойного облика, ненормативная лексика, мат и скабрезности вместо молитвы, лапоть с навозом вместо кадила. Стоит оговориться, что вербальное богохульство может трактоваться двояко: с одной стороны, в Западной Европе оно могло бы считаться верным признаком одержимости бесами, то есть знаком присутствия потусторонних сил (Роббинс 1995); с другой стороны, напротив, считается, что в некоторых ситуациях брань может отпугивать нечисть (Морозов, Слепцова 2004: 763).
Не случайно наибольшая игровая активность приходится на периоды, когда, по языческому календарю, духи и души предков покидают свои пределы и приходят на землю, требуют у людей жертвенной пищи: Святки, Семицкая неделя (в простонародье «зеленые святки»), переход от зимы к весне, Масленица, а также отмечающий переход к зиме западноевропейский праздник Всех Святых.
У болгар есть представление о трех «безумных» (лудите) неделях в году: Нечистая неделя до Святок на изломе старого и нового года, когда «календарные» демоны, «поганцы», косматые, рогатые, одноглазые, выходят из земли, пещер, рек, бродят ночами, нападают на людей; Тодорова неделя на границе зимы и лета, когда святой Тодор выезжает с кладбища на белом коне, а с ним и другие души умерших отпускаются на свободу, бродят среди живых в течение недели, пока Господь их не «похлупва» (закроет) обратно; и Русальная неделя, когда души умерших в виде бабочек витают среди живых, а луга населены русалками, собирающими лекарственные травы. В эти недели, «когда дьяволы ходят по земле», надо обязательно веселиться, устраивать карнавальные шествия, конные состязания, затевать игры и танцы возле кладбищ, чтобы помянуть умерших и заставить всех демонов вернуться в свой мир (Попов 2002).
Игры, ряжения, маски в самые опасные дни года – не столько досуг и веселье, сколько оберег против близости потусторонних сил, в то же время это и способ наладить с ними контакт и задобрить их. Так же как у древних греков атлетические состязания выступали как способ освоения «чужой» территории, традиционные игры на тему смерти являют своего рода попытки поддержать порядок жизни, «приручить» если не саму смерть, то ее посланцев.
Игра святотатствует, глумится и постоянно возвращается к теме смерти – но в то же время это не что иное, как способ ее осмысления. Смерть и похороны в игре, по формуле М. Бахтина, это «смерть, чреватая жизнью», а значит, и воплощение вечного круговорота жизни и смерти.