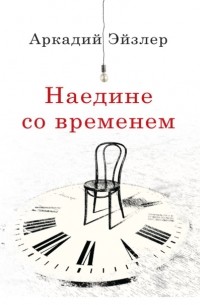Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Спокойно, Николай, спокойно. Разберемся»
По мнению Волкогонова, высланный из страны Троцкий не имел ни серьезной социальной базы, ни серьезной программы, а ярый антисталинизм не мог стать в то время привлекательной платформой для широкой международной общественности, ибо за его проявлениями была видна прежде всего личная ненависть к Сталину, личная обида за несбывшиеся амбициозные надежды, личная боль за утрату близких в России. Троцкий надеялся, что его откровенный антисталинизм найдет широкий отклик в компартиях. Но этого не произошло. В глазах коммунистов многих стран достижения СССР в развитии экономики, в области культуры и образования были связаны с именем Сталина. На Западе еще не знали о его характере, еще не начались громкие политические процессы в Москве, еще не была подобрана краска, способная запечатлеть подлинный портрет Сталина. Попытка Троцкого вызвать извне политическое давление на СССР, на Сталина, на его политику была заведомо обречена на провал. Еще меньше шансов было у Троцкого «поднять» его бывших сторонников в СССР непосредственно против Сталина.
Сталин обладал всеми характеристиками, свойственными интригану, человеконенавистнику и хищнику. Когда доведенному до отчаяния Бухарину удалось по вертушке дозвониться до Сталина, тот успокаивал: «Николай, не паникуй. Мы разберемся. Мы верим, что ты не враг. Но раз на тебя „показывают“ Сокольников, Астров, Куликов, другие двурушники, признавшиеся в своем вредительстве, надо спокойно разобраться. Успокойся». Бухарин срывается: «Как можно даже подумать, что я „пособник террористических групп“?» В ответ он слышит: «Спокойно, Николай, спокойно. Разберемся…» И Сталин вешал трубку.
Бухарин, чувствующий уже дыхание смерти, полный растерянности, пытаясь собрать последние силы для четкого изложения мыслей, пишет в письме Ворошилову о показаниях на суде Томского: «Бедняга Томский, он, может быть, и „запутался“, не знаю, не исключаю. Жил один. Быть может, если б я к нему ходил, он был бы не так мрачен и не запутался, сложное бытие человека. Но это – лирика. А здесь – политика, вещь малолиричная и в достаточной мере суровая».
Нет, он не винит и в свою очередь не оговаривает Томского, не отпирается, не перекладывает вину, он понимает и человечески жалеет его, сожалея о происшедшем. Он догадывается об обстоятельствах, побудивших Томского оклеветать себя и других. Письмо заканчивается словами: «Извини за сумбурное письмо. У меня тысячи мыслей, скачут как бешеные лошади, а поводьев крепких нет. Обнимаю, ибо чист. Бухарин. 01.09.1936 г.». Ни Томский, ни Бухарин ничего не смогут сделать против неотвратимого убойного приговора.
Когда начались процессы, Троцкий из Мексики постоянно давал понять, что судят его единомышленников, судят за идеи. Так, почти в каждом выпуске своего «Бюллетеня оппозиции» Троцкий все время печатал о Раковском, Крестинском, Розенгольце, показывая их «несовместимость» со Сталиным, подчеркивая свою солидарность с ними. Почти регулярно изгнанник публиковал протесты против преследований своих «сторонников». Вся эта защита Троцким «врагов народа» Сталину была на руку, давая ему дополнительные «аргументы» для применения физических средств воздействия на обвиняемых, признававших свою вину вследствие насилия.
В своем последнем слове Бухарин, в частности, сказал: «Я считаю себя и политически и юридически ответственным за вредительство. Хотя я лично не помню, чтобы я давал директивы о вредительстве. Гражданин прокурор утверждает, что я, наравне с Рыковым, был одним из крупнейших организаторов шпионажа. Какие доказательства? Показания Шаранговича, о существовании которого я не слыхал до обвинительного заключения? Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и М. Пешкова. Киров, по показаниям Ягоды, был убит по решению „правоцентристского блока“. Я об этом не знал. Голая логика борьбы сопровождалась перерождением идей, перерождением психологии, перерождением людей».
Может быть, в этом последнем предложении Бухарин, обращаясь к организаторам процесса, заявляет о том, что идеи и люди трансформировались во времени, но методы борьбы между людьми на уничтожение остались неизменными. И это находит свое отражение в заключительных словах обвиняемых, сломленных изуверами Лубянки.
Подсудимый Крестинский: «Мои преступления перед Родиной и революцией безмерны. Я приму как вполне заслуженный любой ваш суровый приговор».
Подсудимый Рыков: «Я хочу, чтобы те, кто еще не разоблачен и не разоружился, на моем примере убедились в неизбежности разоружения».
Подсудимый Бухарин: «Стою коленопреклоненным перед страной, перед партией, перед всем народом».
Порой в соответствии со своим интеллектом и Рыков и Бухарин издевались над Вышинским. Да и сам Сталин не мог не чувствовать скрытую насмешку, предсмертную иронию над организаторами спектакля.
«Вышинский: Подсудимый Бухарин, факт или не факт, что группа ваших сообщников на Северном Кавказе была связана с белоэмигрантскими казацкими кругами за границей. Рыков говорит об этом, Слепков говорит об этом.
Бухарин: Если Рыков говорит об этом, я не имею основания не верить ему.
Вышинский: Вам, как заговорщику и руководителю, был известен такой факт?
Бухарин: С точки зрения математической вероятности, можно сказать, с очень большой вероятностью, что это факт.
Вышинский: Позвольте спросить еще раз Рыкова. Бухарину было известно об этом факте?
Рыков: Я лично считаю с математической вероятностью, что он должен был об этом знать».
Сталин ясно чувствовал глухой сарказм загнанных в угол людей.
Есть множество документов, свидетельствующих о чудовищной беспощадности Сталина, следы его кровавы, и он знал, что делает, и никакие ссылки ни на Ежова, ни на Берию не скрывают его вины. Вот некоторые из них:
«Тов. Сталину посылаю списки арестованных, подлежащих суду военной коллегии по первой категории. Ежов». Резолюция лаконична: «За расстрел всех 138 человек. Сталин, Молотов».
«Тов. Сталину. Посылаю на утверждение 4 списка лиц, подлежащих суду. На 313, на 208, на 15 жен врагов народа, а военных работников 200 человек. Прошу санкцией осудить всех к расстрелу. 20.08.1938. Ежов». Резолюция как всегда однозначна «За. 20.08.1938. Сталин, Молотов».
Были и чудовищные рекорды. 12.12.1938 г. Сталин и Молотов санкционируют расстрел 3167 человек! Рассуждения некоторых, включая Эренбурга в 1962 г., о том, что Сталин не знал того, что творил Ежов, и не представлял масштабов репрессий, считая это делом провокаторов, пробравшихся в НКВД, весьма наивны. Сталин все знал, руководя расстрелами.
В организованном Сталиным процессе против командарма Тухачевского в том же 1937 г., спровоцированном немецкой разведкой, сам Тухачевский пишет по обстоятельствам дела записку Ежову, поспешая полностью признать свою вину, указывая хронологию своего задержания: арестован 22.05, прибыл в Москву 24.05, впервые допрошен 25.05, сразу же признается в наличии военно-троцкистского заговора и руководстве им. Почему он так торопится сделать обличающее признание, одетый поверх элегантного костюма в арестантскую робу с лаптями на ногах? Этому же удивляется и следователь Тухачевского: «Я же его пальцем не тронул!»
В этом-то и состоит вся правда, что герой Революции, не желая допустить над собой физических и нравственных издевательств, привезенный из Куйбышева на Лубянку, потребовал сразу очной ставки с заговорщиками, сначала все отрицая, отвергая все обвинения как злостные выдумки. Даже получив в лицо признания и обличения других участников заговора, он тем не менее просил дополнительные показания на себя и лишь затем, осознав, что все уже соответствующим образом обработано следствием и дальнейшее упорство может привезти к насильственным, известным ему, как военному, методам выколачивания показаний, капитулировал и начал работать со следствием в написании сценария собственного уничтожения с идеологической подоплекой вплоть до заговора с германским фашизмом. И в этом не было ничего нового.
Специфика осуществленного Сталиным антибольшевистского переворота, переросшего в превентивную гражданскую войну против всей плеяды большевиков – последователей Ленина, состояла в том, что он происходил под прикрытием непрерывных клятв в верности делу Ленина и Октябрьской революции. Тщательно скрывая – даже от своего ближайшего окружения – подлинные цели своей политики, морально опустошенный интриган маскировал их популистской, псевдомарксистской фразеологией и грубыми подтасовками цитат из ленинских трудов.
Сталин был напичкан цитатами, словно компьютер, и мастерски владел ими, отягчающе влияя на собеседника, меняя тему в нужном ему направлении или полностью уходя от нее, считая, что выстроенный из ленинских высказываний щит дает ему индульгенцию от любых нападок инакомыслящих. Зиновьев, обсуждая однажды коминтерновские дела со Сталиным, когда их отношения уже основательно испортились, в споре бросил ему, уже осознавая свою обреченность, но, очевидно, не понимая возможность расправы над собой. Будучи еще недавно друзьями – на «ты» друг с другом, он обращается к Сталину на «вы»:
– Для вас ленинская цитата – как охранная грамота вашей непогрешимости. А надо видеть ее суть!
– Разве плохо идее быть «охранной грамотой» социализма? – сразу парирует Сталин.
Свою единоличную власть в СССР Сталин обосновывал в глазах мировой общественности объективными историческими обстоятельствами, умело используя их и ловко на них паразитируя, считая главным из них капиталистическое окружение. Этим Сталин объяснял закрытость советского общества, ограничение информационного пространства, насаждение атмосферы безгласности и секретности. Поэтому население страны не представляло истинных размеров политических репрессий, и в сложившейся ситуации одни социальные группы не осознавали тяготы и бедствий других. Без сомнений, при наличии в 30-х годах системы зарубежных радиопередач, доносящих до советских людей идеи и разоблачения Троцкого, Сталину было бы значительно труднее осуществлять свои зловещие и дерзкие акции.
В обстановке тотальной дезинформации Сталину удавалось изображать оппозиционные ему силы заговорщиками, вынашивающими замыслы реставрации капиталистического строя. Официальная пропаганда все более отождествляла партийное единство с беспрекословным подчинением воле вождя, упорно обрабатывая массовое сознание в духе культа Сталина.
В сознание поколений много лет внушалась идея и глубокая вера в правильность любых его действий. Но мало кто задумывался, что этой вере недоставало знаний всей правды, осознаваемой только сегодня, когда практически все политические противники Сталина реабилитированы и мы смотрим совсем по-иному на внутрипартийную борьбу тех лет. Шла борьба за лидерство, за определение путей и методов строительства новой жизни. Некоторые ошибались, взгляды многих отличались от принятых партией, но они не были врагами социализма, обличаемыми и уничтожаемыми Сталиным, – инакомыслие представлялось ему наихудшей разновидностью вражеской деятельности, обеспечивая вождю как бы единственное право на правду. Малейшее подозрение могло вырасти в обвинение с трагическим финалом. Волкогонов приводит следующий пример: 04.08.1938 г. Ворошилов направляет Сталину статью Кольцова с запиской: «Тов. Сталину. Посылаю статью т. Кольцова, обещаемую уже давно. Прошу посмотреть и сказать, можно ли и нужно ли печатать. Мне статья не нравится. К. Ворошилов».
Сталин резолюции на записке не оставил, однако отдал распоряжение внимательно «разобраться с Кольцовым», за которым уже следили. И этого было достаточно: дело кончилось трагедией известного журналиста и писателя. Кольцов, будучи редактором журнала «Огонек», установил традицию один из дней проводить со знатными, известными личностями. Проведя такой день с Троцким, он положил начало своего конца. Над ним сгущались тучи, и он решил, пытаясь выяснить отношения, зайти в Орготдел ЦК, дверь которого была закрыта. И вдруг ее отворил Сталин. Поговорили, но участь Кольцова была решена.
Сталин был двуличен и злопамятен: Ю. Б. Борев, сын известного юриста Б. С. Борева, о котором речь пойдет дальше, в своей книге «Сталиниада» пишет, что художник Сарьян вспоминал, как, принимая в Москве армянскую делегацию, Сталин, спрашивая о поэте Чаренце, заверял, что его не нужно трогать, а через несколько месяцев Чаренц был арестован и убит.
Сталин ежедневно рассматривал 100–200 документов самого разного объема, от одной страницы до фолиантов. Иногда он расписывался, иногда просто писал «согласен». Именно формальная демократия привела к тому, что уже в 30-е годы партия стала главным инструментом сталинского единовластия. И когда на февральско-мартовском Пленуме 1937 г. Жданов в осторожной форме поставил вопрос о «нежелательности подмены» партийными органами хозяйственных решений, в заключение доклада «О подготовке партийных организаций к выборам в Верховый Совет СССР» Сталин жестко подчеркнул: «Нельзя политику отделять от хозяйственной деятельности. Партийным организациям нужно по-прежнему вплотную заниматься хозяйственными вопросами».
Придание указаниям Сталина значения однозначных повелений, рассчитанных на безоговорочное и единодушное одобрение широкими массами, основывалось на низком уровне их политической культуры и социального сознания народа, отягощенного многовековым наследием образовательного статуса, что и позволяло проводить различные идеологические манипуляции.
Одной из самых больших загадок сталинизма является сочетание брутальности режима с жертвоприношениями миллионов жизней и невероятно чувствительного отношения к их внешним формам. Ритуал для режима был крайне важен. Это иллюстрирует исторический анекдот, связанный с персоной Берии. В 1953 году, как известно, его арестовали, сразу же после этого из всех экземпляров издающейся «Большой советской энциклопедии» была удалена страница, на которой помещалась статья о Берии. Причем эта страница была не просто вырвана, она была перепечатана так, чтобы не было никакого пробела. Все знали, кто такой Берия и что с ним произошло, но у режима были свои ритуалы, при исполнении которых он проявлял крайнюю щепетильность, полностью при этом игнорируя мнение народа в расчете на его безмолвие.
В недавно приобретенном мной, сейчас уже ставшем раритетом, сборнике иллюстраций художника К. Ф. Юона на титульной странице значится: «Вступительная статья Н. И. Бухарина». Но, как бы ни искал читатель, он не найдет этой статьи в указанном сборнике – ее просто нет, она исчезла.
Спустя 20 лет мы читаем в дневнике Чуковского о ситуации, связанной с именем Сталина после выступления Хрущева:
«06.03.1956. Всеволод Иванов утверждает, что все книги, где было имя Сталин, изъемлются теперь из библиотек. Уничтожили миллионы календарей, напечатавших „Гимн“. Все стихотворные сборники Суркова, Симонова и т. д. будто бы уничтожаются беспощадно.
Большая советская энциклопедия приостановлена. Она дошла до буквы С. Следующий том был целиком посвящен Сталину, Ст. премиям, С-ской конституции, Сталину как корифею наук и т. д. На заседании редколлегии „Вопросы истории“ редактор сказал: „Вот письмо мерзавца Ст-на к товарищу Троцкому“.
Всев. Иванов сообщил, что Фрунзе тоже убит Сталиным!!! Что фото, где Ст. изображен на одной скамье с Лениным, смонтировано жульнически. Крупская утверждает, что они никогда вместе не снимались».
Управляемая массовая истерия переходит от обожествления вождя к затмевающему разум проклятию его. Смесь трезвого и меткого наблюдательного взгляда с испуганными попытками объяснить необъяснимое и принять неприемлемое, запечатленная в записях 30-х годов, характерна для восприятия эпохи многими писателями той давней поры.
Стране не надо учиться врать ни у кого, кроме как у собственной истории. Мифы о Ползунове, Лодыгине и Попове проходят через все учебники отечественной истории, с самозабвением раздувая «национальное лидерство». Несмотря на обилие информационных потоков, страна безмятежно врет как самой себе, так и всей округе, создавая мифические приоритеты даже там, где не надо.
В СССР на протяжении 70 лет замалчивалось истинное происхождение основателя государства – Ленина, хотя его старшая сестра А. Ульянова еще в 1932 г. в письме Сталину упомянула, что ее дедушка по материнской линии был украинским евреем, перешедшим в христианство, чтобы получить доступ к получению высшего образования: «Он вышел из бедной еврейской семьи и был, если верить свидетельству о крещении, сыном Моисея Бланка, рожденного в западноукраинском городе Житомире. Владимир Ильич всегда был высокого мнения о евреях. Мне очень жаль, что обстоятельства нашего происхождения, предполагаемые мною давно, еще не были известны при его жизни». Ульянова просила Сталина сделать достоянием общества еврейское происхождение Ленина, чтобы остановить растущий антисемитизм.
То, что зомбированные многотысячные трудовые коллективы поддерживали установки и мнения ЦК, было заметно по «энтузиазму» масс, сгоняемых на митинги и выборы. Рабочие, колхозники и представители трудовой интеллигенции, поднимаясь на трибуны различных съездов и собраний, начинали свои выступления со слов, подобных этим: «Я книгу Пастернака не читал, но…», и далее следовал поток брани. Но все чаще возникал вопрос – верила ли высшая сталинская номенклатура и примкнувшая к ней часть общества в то, что делала, или была лицемерной? Словенский философ С. Жижек однозначно отвечает на вопрос о сталинской элите: «Мне кажется, они на самом деле верили, и это ужасно».
Эта вера сохранилась у многих и до сих пор, если всмотреться в кадры фильма «Сталин Live», где отец народов представлен эдаким грузинским красавцем, жгучим брюнетом, в состоянии постоянного раздумья, выпаливающим цитаты из Талмуда, Ветхого завета или Библии. Он выглядит почти пророком в окружении безликих зажравшихся «держиморд» с лицами на весь экран, словно в балагане скотного двора из романа Оруэлла. Здесь и не пахнет демократией, хотя именно о ней и ее принципах идет речь. Нам навязывают подмену понятий и стереотипов, в том числе и пронесенного через века гуманизма. Свобода в цитадели социализма под названием СССР была всегда, но не было возможности ею воспользоваться. Мы имели свободу выбора, но только в том случае, если он совпадал с тем, о котором, опять же, пеклись власти.
В условиях запретов, контроля, цензуры правда стала роскошью. Неосторожное слово, действие, поступок, фраза расценивались как покушение на монолитность советской власти.