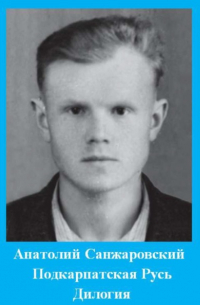Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
11
Лошадь быстра, да не уйдет от хвоста.
Пировать так пировать – бей,
жинка, целое яйцо в борщ!
Это уже так.
Если человек помнил Родину, помнил он и свычаи-обычаи Родины.
Уж с чем пустила своя сторонка на чужбину, то и живёт в нём, мается до последней его черты – душу не выплюнешь.
В стародавние времена за что только не пластал пан подати с русинского бедака! За плетень плати, за дерево плати, за окно плати, за дверь плати, за трубу плати… И чем просторней та же, к слову, дверь, то же окно, круче и подать.
И лепил горемыка хатуню без сеней, «без штанов», обшивал соломой, ладил поменьше окон да помельче. Со стоном счищал сады.
Страх перед гибельной податью привёз Головань в себе и в этот, как он с посмешками называл Калгари, в этот рай на самый край, где Боги горшки обжигают.
«Сегодня нет податей. А за завтра кто поручится?» – думал, сводя во дворе последние деревья; опустел, помертвел двор.
Перетряхнул и дом. Убрал три окна, а те, что оставил, порядочно сменьшил.
Дом и старики годами были без мала ровня, у всех в боку кисло не по одной болячке; по ночам, в ветер, в морозину, стонало всё в изношенном доме, будто жаловалось; старики молча жаловались на свои болячки; чудилось, дом слышал их жалобы, утешал: то сронится где щепка со стены, и старики примут её за сочувственный вздох стен, то надсадно охнет с мороза лестница, ей холодно в дряхлой, обречённой халупинке, и старики каждый про себя пожалеют её.
Чуть врытый в землю деревянный дом был на два этажа. С виду ненадёжный, крохотный. Однако сыновья не могли надивоваться, как это старикам удалось поделить, порвать его на десять комнаток, узеньких, тесных, на пару хороших шагов каждая.
Частое мелькание карликовых дверей и комнатёшек скоро утомило Ивана с Петром. Им казалось, сам нянько, знакомящий с домом и в подробностях жадно расспрашивающий их об их житье в Белках, будто и не было никогда толстых писем, держался нетвёрдо, мог сам заблудиться в этих призрачных лабиринтах. Обитель эта пахла своей ветхостью и ветхостью своих хозяев, была им под стать: древняя, полугнилая, невозможно запутанная, как и сами их жизни.
– Вы, нянько, не бросьте нас только в этом лесу, – со смешком сронил Петро.
– Не-е, сынку, бросить придётся, – рассудливо подумал вслух отец. – Мы с бабой Любицей долго ещё на белом свете не прокапризничаем. Переберёмся в вечные каменные покои. А эти уж Ваши…
– На месяц, – уточнил Иван, расплываясь.
– А-а, сынку… Где месяц, там и вся жизнь, – почти вшёпот проговорил старик, проговорил неуверенно, надвое, наклоняясь к Ивану. – Прошёл месяц, идут к властям. Власти ещё на полмесяца бьют штамп. А тамочки…
– … а тамочки, – холодея лицом, сдержанно перебил Петро, – наверно, Мария с бабой Любицей приготовили уже всё. Айдате ближе к ним.
– Да, да… – потерянно, будто его с кола сняли, закивал старик, направляя шаг к кухне и пряча смертельную досаду в глуби цветущих, гноящихся, глаз.
«Вот, ядрён марш! – расхаивал себя. – Наскочил чёрт на беса…»
Разворотливый старик загодя так и порешил, утолкал себе в голову, что с первого же дня навалится клонить сынов к тому, чтоб остались.
Вроде всё покатилось краше не придумать. Ни с чего путящой разговор поднял, вроде ответность какая проблеснула…
Ан на! Обвалилось всё, как в пропасть…
Ватно, сникло брёл по теснине коридора, не замечал, что его заносило, тыкался плечом то в одну стенку, то в другую, не слышал стлавшихся сыновьих шагов за собой.
«Я отступлюсь на пока. Осматривайтесь… Не маленькие… Сами поймёте, где и с кем Вам способней быть… Перервусь, а не подкорюсь. Всё одно на свою руку выведу. Будет верх за мной. Бу-удет!»
Стекла в душу уверенность, уверенность дала силу. Взял себя в руки, вернулся старик к хлопотам минуты.
Заботливо спросил:
– А что, сынки, наиглавно с дороги? – Сам и ответил: – Конечно, поесть, поспать…
Не знал, что ещё сказать.
Пауза затягивалась. Становилось неловко, и он, входя в кухню, обрадованно вспомнил, про что тянуло спросить давно, утишил шаг. Заглядывая Петру в самые зрачки, заговорил не без боли, одетой в притворство:
– Петрик, а правда… И по радио, и по газетёшкам по нашим, и по телевизору… Скрозь такая пропаганда… А правда… А правду брешут, что у вас голод?
Уловил Петро язвинку в голосе. Но виду не подал.
– Смертельный! – весело кинул.
– Выходит, есть вам от нас подмога. Как-никак даём пшеничку…
– За золото. Государство платит вам золотом. А нам за копейки отдаёт. Абы накормить досхочу всякого.
– С привозу накормишь такое множество. Сорочат, с голоду пухнут…
– Пухнут! Ох как пухнут, нянько! Вот один перед Вами пухлый. – Упёрся Петро в раскисшие бока, демонстративно шагнул в белый кружок весов, стояли в кухне, ближе к углу, но не далее как на вытянутую руку от двери. – Вот!.. С голодухи под триста фунтов наскрёб! Перепух!
В бережи оглаживал он здоровыми горстями тугое бочковитое брюшишко, как бы с ехидцей твердя, эко-де разнесло, расперло пухляка с беды.
Старик с тающим недоверием сторонне косился на его живот, часто смаргивал, будто что попало в глаза, помалу губы сами собой сложились в улыбку. Не похож на голодовщика. Оюшки, не похож!
С весов Петро трогал глазами Марию, кроившую паутинно тонкими кружалками колбасу. С ножа, с колбасы взор то и дело заманывало, сошвыривало книзу, и сам собой взгляд тяжелел, соскальзывал на разрез сбоку в блескучем красном платье.
Всякий раз, как Мария переступала, прорешка коротко распахивалась, на миг из неё узко выказывалась творожной белизны нога до самого верха.
Припомнилась афиша про театр одного актера, и тут, глядя на ногу, которая то выглянет, то спрячется, то выглянет, то спрячется, пришла ему мысль, что это – театр одной ноги. Мысль эта ему понравилась, он улыбнулся ей и с трубным вздохом поднял-таки любопытные глаза выше распаха прорехи. За Марией был настежь раскрытый холодильный шкаф, сверху донизу навально забитый свиными, куриными, говяжьими оковалками.
– Да Вы что? И в сам деле возрешили, что мы из голодного края?
– Тут, сыне, полтора центнера, – с теплотой во взгляде отозвалась от плиты баба Любица, поведя ложкой в сторону холодильника-стенки.
– И всё это намечтали затолкать в нас?
– Кое-что и в себя, – уклончиво улыбнулся нянько. – Бралось оно не вчера и не сегодня. Ноне мясо с зубами. Кусается. А ну девять доллариков отдай за кило! С бабкой мы тёртые-перетёртые, набрали в сезон. По полтора твердыша. Этот запасец надобно нам растянуть на три года.
– Ну-у! – вбыструю подсчитал Петро. – По семьдесят граммулечек в день? Это ж что? Только понюхать? Извинить… И Иван, и я в каждую осень валим под нож по два тушистых кабаняки. Лично я привык есть так есть. А не нюхать!
А про себя подумал:
«Да при такой нормочке, извиняюсь, меня ни в какой театр не позовёт!»
– Ограничение в пище гарантирует долголетие и красоту тела! – с вызовом почти выкрикнула Мария и в подтверждение своих слов тяжело пристукнула тарелкой, ставя её посреди стола. Тарелка была выложена в один слой невообразимо тонкими ломтиками колбасы.
«Это-то на всех?! Да я на одну вилку всё это насажу, за раз проглочу. Вот и вся твоя красота!»
Чувствовалось, напала Мария на свою жилку.
Распаляясь, горячо раскатывала свою мысль:
– В каждом толстяке, Петруччио, живут двое. Собственно, сам толстун – пардон, о присутствующих не говорим! – и второй… тонкий, изящный, праздник для каждого сердца. Если с пузанчика стесать диетой всё лишнее, все те смертельно опасные валы жира, согнать всё его уродующее, в итоге получим само совершенство природы, – просительно улыбаясь, не без кокетства коротко показала на себя, жердинно выпрямляясь и подавая себя публике. – Это я Вам говорю как член общества, которое так и называется «Сбрось фунт веса с умом».
– В самую точку! – подавшись навстречу, выставил Петро палец, будто собирался проткнуть это само совершенство. – Вот эта проблема сушит и нас, голодных! – многозначительно, с сарказмом глянул на отца. – Ваша пропагандёшка поёт, что у нас проблема как поесть. А Вы наплюйте той худой пропагандёшке помеж очи за такую брехню. У нас же совсем другая серьёзная проблема. Как похуде-е-еть!
– Океюшки, дон Педро! – торжественно пришлёпнула Мария длинными вытянутыми пальцами по мягкому плечу Петра. – Своим богатым опытом я готова, братко, делиться с Вами хоть когда!
– Э-э… Какой из меня ученик?
– Не клевещи на себя. Все мы ученики, покуда живём. К практическим урокам похудения привлеку маму.
– Марушка, – с тихой усмешенькой отозвалась от печи мать, – я уже готовлю к подаче, позволь так сказать, твой первый урок.
Она дожаривала обваренное постное мясо, кутала в бумагу, забирая с мяса остатки жира.
– То ж не мясо будет. Резина! – Петро сложил ладони лодочкой, с мольбой поднёс к груди.
– Для кого резина, а для кого и диета. – В старушечьих глазах затлелась обида. – Тебе, сынок, надо есть половину того, что ешь. И никаких жиров! Никакого сала!
– Доскакался мячик – на гвоздь напоролся, – упало покивал Петро. – Да при такой диетке недолго ковырнуться даже и в гостях в могилевскую. Мне ж в обед дай-подай мисяку борща, шмат сала с пол-локтя да пол-литровую банку сметаны. Тогда я и работник. Готов ворочать горы.
– Допустим, ворочает горами трактор, а не твоё сало, – тускло возразила старуха.
Всё то время, решила она, что пробудут здесь браты, будет она снимать с Петра лишнюю тяжесть. И первым пунктом в её науке похудеть было: откажись от хлеба. Ну, за обед можно один ломтик, тонюсенький, как листочек. Больше ни-ни. С хлеба человек жиреет.
Смотрите вот на нас.
Люди у нас мелкие, лёгкие, диетичные. Вон даже наша Марушка. Призёрка лестничных бегов на самой высокой в мире торонтской телевышке…
«Призёрка! – хмыкнул Петро, покосившись на длинноногую Марушка. – Мда… Так какое сходство между телевышкой и женской ножкой? Чем выше, тем больше дух захватывает».
– Да! Призёрка! – подкрикнула гордовато старушка. – И здесько ничегошеньки стыдного! Почётное звание никому не навредит. А здоровью ого-го какой приварок это скаканье! Ведь одна ступенька при подъёме по лестнице продлевает жизнь на четыре секунды!
– Надо ли так убиваться из-за каких-то четырёх секундёшек? – ехидно бросил Петро.
– Надо, сыне! – торжественно пристукнула по столу ручкой ножа старуха. – Вся наша жизнь складывается разве не из секунд?
Петро приподзакрыл глаза. Промолчал.
Лишь пожал плечами.
– А таких грубых, – ласково продолжала старуха, – то есть полных, здоровых, как ты, Петрик, волов не встретишь в Канадочке. А всё потому – мало едим хлеба. И вообще сыты с пальчика… Знаю, любишь селёдку – тебе нельзя. Налегай, сынаш, на обезжиренное мясо, на фасоль с капусткой, на диетичные яйца, на овсяную кашку со снятым молочком…
Понуро слушал Петро приговор, редко взглядывал без разницы на плоскую, усохлую старуху, на такую же худую-расхудую её дочку, – ну прям гремит арматурой! – и обмякло думал, что же с ним станется, как усадят на диету. Вот гостеванье так гостеванье! Неуж страшатся, что не прокормят месячных гостей, а того и мостят под голодовку научную базу?
Старуха приметила надломленность в Петре, услужливо поставила перед ним капусту на постном масле.
В милости пропела:
– Не переживай, сынок. У нас, в Словакии, знаешь, как говаривали? То, что должен сделать, сделай сегодня, а то, что должен съесть, оставь на завтра. Оставим всё тяжёлое на завтра.
Петро опало поддакнул.
– А у нас, – ладясь старухе в тон, вкрадчиво встегнулся в разговор старик, – а у нас, в Белках, не хуже говорили… Хочешь, чтоб учеба на ум пошла, промой сперва извилины спиртом, – и, стукая бутылками, выставил пиво.
– Правильно! И сейчас так говорят, – ожил Иван, заждался в скуке ужина. – Народная мудрость не ржавеет. – Да на стол бутылку пшеничной, бутылку русской. У ног держал.
– Ух ты-ы!.. Русская паленка собственной персоной!
Прищёлкнул старик по этикетке ногтем, погладил, виновато, потерянно косясь по бокам; будто для согрева с большого мороза неплотно охватил дрожащими скобками наливавшихся белью ладоней:
– Россиюшка…
Показалось старику, смотрят сыновья на него как-то нехорошо, с укором. Мол, водочка – кума, хоть кого сведёт с ума. А может, ты пьяным и родился?
Отдёрнул руки от русской, смято заоправдывался:
– Может, так с годок назад пивком ещё баловался… Нанёс мамай не знай эсколько! А тут врачи: больше нельзя тебе, дядько, пересахарился… Откопали чингисханята сахарный диабет! С той поры ни граммушка… Так с той дави пивко и стоит… Нетронутое…
– И всё годное? – Не стерпел Петро, соснул прямо из горлышка старого пива. – Как вчера с разлива! – Весёленький перфект! Мо-ожете делать…
В крохотные, с напёрсток, простые стаканчики наплескал старик русской.
Сморгнул слезу. Встал. И все встали за ним.
– Пиво – дело полюбовное. Пиво оставим на пока. А почнём с русской. С праведной. Первую пьют все, кому и нельзя. Из этой бригады я не отсаживаю и себя. Один раз помучусь и больше не буду… Сегодня всё всем можно… Ты, бабо Любша, не хвались давлением. Его уже и Петро, меньшак, нажил… Помру от своего сладкого обеда-диабета, а выпью с сынами… Ну… Чокнемся… За встречку, сынки!