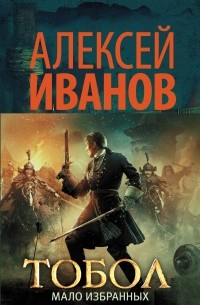Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 4. Мис-нэ
В ту зиму Айкони иногда приходила к Когтистому Старику. Огромная башка Старика лежала как раз в той чамье, где Айкони укрывалась от сумасшедшего медведя. Башка занимала половину амбарчика. Нахрач выскреб череп Старика изнутри и набил травой. Глаза он съел, хотя люди не едят глаза зверей, а зубы выдернул, чтобы перетереть на порошок и сделать снадобье. Айкони зашила пасть медведя жилами, а в глазницы вставила кружочки из бересты – так когда-то научил её Хемьюга. Башка Старика, приведённая в правильный вид, дремала и слушала Айкони. Две отрезанные лапы с когтями покоились слева и справа от носа.
– Ты очень хитрый, Когтистый Старик, – говорила Айкони медвежьей голове, еле вместившись в тесный жертвенный амбарчик. – Я думала, что мы с уламой убили тебя. Ты лежал в яме на кольях совсем-совсем мёртвый, даже не дышал. А ты всех обманул. Но потом я не удивилась. Ты же был дух.
Конечно, Старик её обманул. Айкони и Нахрач не смогли вытащить из ловушки огромную тушу медведя, и могучий Нахрач разделал добычу прямо в яме. Голову и передние лапы, как положено, он оставил для хранения на капище. Задние лапы, печень и шкуру Нахрач взял себе, остальное отдал Айкони. На нужном месте они вдвоём развели костёр, Нахрач обкурил голову Старика дымом, исполнил пляску, изображающую победу Айкони над медведем, и спел песню, восхваляющую поверженного врага. Потом они накормили Старика его же мясом. И получилось, что Старик съел сам себя, то есть как бы вывернул свою жизнь наизнанку и возродился где-то в другом лесу, в какой-то берлоге, в виде нового медвежонка. Значит, он остался жив и даже вернул себе обычную медвежью природу, избавившись от проклятия Хынь-Ики. Значит, Айкони не убила его, и ему не за что мстить девчонке. Когтистый Старик обманул всех – и Айкони, и Хынь-Ику – и жил снова.
Мяса медведя ей хватило на всю зиму. У неё никогда ещё не было такой сытой, спокойной и счастливой зимы. Она даже потолстела. На Ен-Пуголе её ничто не беспокоило. После первых снегопадов она обошла окрестные чащи и познакомилась с деревьями-вожаками. Это было важно для добрых отношений с лесом. Деревьям-вожакам подчинялись все остальные деревья. Вожаки всегда были старыми и кряжистыми, но не всякое старое дерево становилось вожаком. Искать вожаков было проще в начале зимы, когда снег ещё тонкий. Вожаки – они тёплые в сердцевине, и вокруг них долго держится протаявшая лунка. Айкони назвала вожакам своё имя, обломила с них щетину – тонкие мёртвые веточки, сделала вожакам подарки: одним повязала цветные нитки, а другим воткнула в кору пёрышки; красные кедры она помазала своей кровью, а одной скрипучей лиственнице подвесила на сук погремушку из утиного горла – пусть беседует, если так любит говорить.
Ей теперь тоже было с кем говорить. Нахрач принёс ей настоящий огонь – не тот, который соскакивает с кремня, чтобы согреть человека в пути и затем умереть, а родовой огонь из освящённого очага. В этом огне жила маленькая весёлая женщина Сорни-Най в красном платье. Когда-то она была дочерью бога Торума, хозяина неба. Некий молодой охотник полюбил её, превратился в ласточку и похитил у Торума, бог только успел метнуть вслед похитителю молнию, которая надвое рассекла ласточке хвост. А Сорни-Най с тех пор жила у людей на земле. Айкони рассказывала ей о своей жизни, но ни слова не говорила о князе-предателе: она выбросила из памяти его образ. Она ценила внимание Сорни-Най и ухаживала за огнём. Нельзя было с размаху швырять в него дрова – можно ушибить. Нельзя ворошить в огне острой палкой – можно выколоть глаз Сорни-Най. Нельзя бросать мусор в угли – огонь обидится. Нельзя плескать воду – это оскорбит его. Нужно понемногу делиться с огнём своей пищей и давать ему лакомство – смолистые шишки. Если Сорни-Най сыта и довольна разговорами с хозяйкой своего очага, то она не пустит в дом Хынь-Ику, великого лжеца, знающего столько историй, сколько рыб в священном озере Имлор. Хитроумный Хынь-Ика живёт в низовьях Оби, там у него изба из костей; каждая птица, что прилетает весной, приносит ему какую-нибудь историю или сказку, поэтому он лучший в мире рассказчик. Но ему скучно зимой, и он рыщет по земле, оставив сторожить свою избу чудовище Пырнэ. Хынь-Ика оборачивается мышью, пробирается в жилища людей и творит зло. Когда Сорни-Най дружит с хозяйкой своего очага, она убивает мышей, и Хынь-Ика, чтобы войти, должен превращаться в человека, но для этого ему надо надеть семь чёрных рубах, а в семи рубахах Айкони и сама узнает демона и ошпарит его кипятком из котла.
Айкони в эту зиму вовсе не было одиноко. Нахрач сдержал своё слово: Когтистый Старик был убит, и Нахрач дозволил Айкони приходить в рогатую деревню. Вогулы встречали её дружелюбно. Никто не припоминал, что у русских она совершила преступление и её теперь ищут. Епьюм научил Айкони особым образом вязать силки на зайцев. Щенька разрешил охотиться на Волосатом болоте, которое считалось угодьем его семьи. Юзоря подарил топор, а Себеда – точильный камень. Панца и его жена Соя всегда кормили Айкони. Старуха Нероха показала ей, как заквашивать в горшке жёсткий собачий мех, чтобы он становился мягким и ровным, точно у песца. Марпа, жена Михани, обменяла Айкони на медвежье мясо целый мешок лоскутков. И всё же Айкони не перебиралась в деревню. На Ен-Пуголе ей было лучше.
Иногда к ней в избушку приходил Нахрач, и Айкони это нравилось. На Ен-Пуголе Нахрач был совсем не такой, как в рогатой деревне, где он всех ругал, всё время что-то распределял и отдавал приказы. Однажды Нахрач пришёл под вечер, замёрзший насквозь, в залубеневшей одежде и с лицом, исхлёстанным в кровь ветвями. Он долго отогревался, потом шумно хлебал из миски, которую подала ему Айкони, а потом лёг возле очага.
– Почему твоё лицо исцарапано? – спросила Айкони.
– Я дрался с Калмысь-ойкой. Я бил его, а он меня.
– А кто такой Калмысь-ойка?
– Бог, – просто и пренебрежительно пояснил Нахрач. – Он хозяин Тарыг-урама, Соснового холма. Ты видела, что белки уходили?
– Видела, – кивнула Айкони.
Вчера она заметила, что весь снег на берегу густо истоптан белками. Это был след большого звериного переселения. Бывало, что белки, или мыши, или бурундуки вдруг огромной стаей бежали куда-то через луговины и леса, переплывали реки, меняя место обитания. Бывало, что птицы подчистую улетали из рощи, исчезали рыси или волки, рыба внезапно пропадала из всей реки от истока до устья. Почему случалось такое, Айкони не знала.
– Это Калмысь-ойка играл в кости с Петысь-эквой, хозяйкой кедрачей на Яурье, и выиграл всех белок. Я ходил, бил его, чтобы он отдал.
Нахрач говорил так, будто могущественные боги и духи были его соседями, с которыми можно ссориться или заставлять их что-то делать.
– Ты шаман, Нахрач? – спросила Айкони.
– Я камлаю.
– Я тоже камлала, но я не шаман.
– У меня есть шаманский сундук.
Айкони бывала в доме Нахрача и видела этот сундук: большой, красиво раскрашенный ящик, в котором хранились шаманская шапка, меховая и рогатая, и деревянные личины для плясок, а также моток священной верёвки, которая в верхнем мире превращалась в волосяной мост, чтобы душа шамана преодолела огненную бездну, и резные палки, которые на небе становились конями, чтобы шаман мог догнать богов. Над сундуком висел кривоватый бубен в рубашке из налимьей кожи – бубны имели душу, а имеющие душу должны носить одежду. Обечайка бубна была берёзовая, к ней на костяные гвозди крепилась натянутая шкура, и по окружности были пришиты медные колокольцы. Рукоятью служила крестовина из оленьего рога. Снаружи бубен был украшен четырьмя изображениями Небесного Всадника: левое верхнее и правое нижнее изображения – чёрным по красному, а левое нижнее и правое верхнее – красным по чёрному. Бубен Нахрача славился своим голосом.
– Ты не похож на шамана, – недоверчиво сказала Айкони.
Хемьюга, покойный шаман из её родного Певлора, был совсем не таким, как Нахрач. Шаманство – это проклятие, беда. Шаманы слабые, больные, измученные. Отвары ядовитых грибов, пляски в дыму, корчи с пеной изо рта, жуткие мороки и восхождения в верхний мир истрачивают шаманов раньше срока. Они быстро седеют, трясутся и много плачут. Духи, которые входят в шамана, расшатывают его тело, как большая рука мужчины растягивает и разрывает маленькую рукавичку женщины. А Нахрач – здоровый, сильный и ловкий, подобно лесному мужику Комполену, хотя, конечно, горбатый.
И ещё шаманы бедные. У них нет сил на большие охоты, нет времени на своё хозяйство – их то и дело отвлекают на помощь другим людям, а потом они подолгу лежат в изнеможении. Шаманы имеют только то, что им подарят. А Нахрач – богатый. У него свой дом, он всегда сыт, он приказывает вогулам отдавать ему то, что хочет получить, и вогулы отдают.
– В тебе есть шаманский корень? – спросила Айкони.
Шаманский корень – что-то необычное у человека. Странные события в судьбе или удивительные способности. Так боги указывают, что избрали именно этого человека. Хемьюга, пока был молод, умел плавать в реке, точно собака, хотя остяки Певлора боялись холодных речных вод.
– Моего деда убило молнией на Юконде.
Такое объяснение вполне доказывало шаманский корень.
– А когда ты услышал шаманский зов?
Любой, кто избран богами, рано или поздно слышит шаманский зов. После этого человек должен идти на выучку к старым шаманам, чтобы перенять их опыт и продолжить их дело. Но кому хочется жить бедно, мало и в болезнях? Бывало, что человек отказывался отвечать на шаманский зов. Тогда боги мстили ему. На него обрушивались несчастья и беды.
– Я не слышал шаманского зова, – с презрением ответил Нахрач. – Меня не надо звать. Я своими ногами иду туда, куда хочу.
– Даже к богам? – удивилась Айкони.
Она слушала Нахрача во все уши. В деревне Нахрач не позволил бы Айкони так допрашивать себя.
– Боги и духи не скрыты от людей, иначе кто будет знать про них? Все люди иногда чувствуют их рядом с собой или сталкиваются с ними. А я сам их отыскиваю. И заставляю исполнять то, что они могут.
Айкони подумала, что горбатый Нахрач ходит к богам, будто на охоту. Он выслеживает богов, словно зверей в лесу, ловит и принуждает служить.
– И ты не пьёшь отвары из грибов и трав? Ты не падаешь без разума?
– Так поступают слабые шаманы. Они похожи на трусов, которым надо выпить пьяной воды, чтобы стать смелыми. А я смелый и без пьяной воды.
– Но как твоя душа попадает на верхние небеса, если ты не дуреешь?
– А что мне делать на верхних небесах? На высоте боги равнодушны. Разве Ен перестанет курить свою трубку, когда я попрошу у него вернуть белок в кедрачи на Яурью? Разве Мир-Суснэ-Хум остановит своего коня, когда я попрошу у него разбить лёд в Нуртальхе пораньше? Высокие боги ничего не делают для людей. Зачем мне к ним ходить?
– У тебя нет «тёмного дома»? – догадалась Айкони.
В «тёмном доме» шаман камлает, и в него вселяются боги, души предков или духи, которые живут под землёй. Они говорят устами шамана, и другие люди могут их слушать. А ещё в «тёмном доме» шаман лечит. Болезнь – это же злой дух. Если его выгонять из больного разными зельями и снадобьями, он может перескочить в другого человека или в скотину. Поэтому его надо выманить дарами и восхвалениями. Шаман намазывает больному лицо сажей, режет жертвенное животное и пляшет для злого духа под бубен. Дух вылезает из больного, чтобы принять дар и увидеть пляску, а потом не может вернуться обратно, ведь лицо больного в саже, человек скрыл себя в темноте. А выход из «тёмного дома» перегорожен волосяной верёвкой. Злому духу некуда деваться, и он уходит в землю.
– Ты не похож на шамана, Нахрач Евплоев, – честно сказала Айкони. – Но и на князя ты тоже не похож.
– Почему я не похож на князя? – рассердился Нахрач.
– Пантила живёт не как ты. И русский князь не как ты.
В её родном Певлоре Пантила Алачеев был князем лишь потому, что принадлежал к древнему роду Алачея, Игичея и Анны Пуртеевой – князей остяцкой Коды. Хотя Кода уже давно исчезла, кровь есть кровь, и в Певлоре никто не спорил, что Пантила – князь, если не считать того случая с Ахутой Лыгочиным, отцом Айкони. Всё равно Певлор жил своим умом: люди сами, без князя, распределяли угодья, сами судили друг друга и сами собирались на общие работы. Князь был нужен только для того, чтобы от лица Певлора говорить с чужаками – с русскими или бухарцами. И жизнь Пантилы не отличалась от жизни других остяков. А вот Нахрач правил своим Ваентуром так, как русские князья правят Берёзовом или Тобольском: он один решал общие дела, и вогулы подчинялись ему беспрекословно. Однако у Нахрача, в отличие от русских князей, не было никакой силы – ни войска, ни богатства. И Нахрач не принадлежал к древним княжеским родам: всех вогульских князей на Конде и Пелыме русские истребили ещё сто лет назад.
– Почему вогулы слушают тебя, Нахрач? – спросила Айкони.
– Я говорю с богами, – надменно ответил Нахрач. – Я нашёл лежбище Ёма-чахля, принёс ему дары, и Ёма-чахль дал песцов. Вогулы заплатили ясак русским в Пелым. Я поймал сетью Нюмчу в Инхетском Соре, и Нюмча дал рыбу. С тех пор вогулы ездят рыбачить на Инхетский Сор. Никто из вогулов не умеет делать так, как я. Я указываю богам и людям, где зверь, где птица, где рыба. Кому ещё быть князем в Ваентуре? Щеньке? Старухе Нерохе?
Айкони стало всё ясно. Конечно, только Нахрач Евплоев, покоряющий богов и духов, мог быть князем рогатых деревень Конды.
– А зачем тебе я, Айкони? – спросила она о самом главном. – Пантила меня прогнал. Сатыга прогнал. А ты пустил жить в избушку на Ен-Пуголе.
– Я взял тебя, чтобы ты победила Когтистого Старика.
– Когтистый Старик ушёл, а я здесь.
Нахрач завозился у огня, раздумывая.
– Для тебя Ике-Нуми-Хаум начал говорить, – признался он. – Со мной Ике молчал. Видно, ты ему понравилась. Я такого не ждал.
Айкони поёжилась, вспомнив схватку с Когтистым Стариком. Осенний ветер тогда забросил уламу на лицо Ике-Нуми-Хаума, и деревянный идол закричал: «Явун-Ика! Иди ко мне!». Когтистый Старик подчинился зову, пошёл к идолу и провалился в ловчую яму.
– Ты веришь, Нахрач, что Ике ещё что-то скажет мне?
– Да, – кивнул Нахрач. – Он должен сказать, как его спасти.
– А кто хочет его убить? Русские?
– Твой князь Пантила пообещал русским отдать Ике-Нуми-Хаума. Ведь Ике – это Палтыш-болван с вашей Коды. Игичей Алачеев, предок Пантилы, надел на него железную рубаху Ермака. Я жду, что Ике заговорит, когда почувствует приближение опасности. Но говорит он только с тобой.
– Почему?
– Я не знаю, – Нахрач посмотрел Айкони прямо в глаза, и Айкони и смутилась, и оробела. – Я ещё не понял, кто ты, и почему ты слышишь Ике.
– Кто я могу быть? – Айкони уже испугалась.
– Я думаю, ты Мис-нэ.
В очаге неожиданно полыхнуло пламя, на углях мелькнуло красное платье Сорни-Най, и Айкони словно опалило жаром. Она – Мис-нэ!
Даже шаманы не знают, откуда берутся Мис-нэ, нежные и страшные лесные женщины. Они живут вдали от людей в глухих и пустынных чащах. Их встречают только те охотники, которые всю долгую зиму проводят в одиночестве на заимках. После самых сильных холодов, когда над Обью, проливая синюю воду, наклоняется созвездие Кувшина, Мис-нэ может выйти к человеку. Нет ничего прекраснее лесной любви Мис-нэ, и бывало, что охотник уже не возвращался с зимовья в родную деревню. Его находили мёртвым, сидящим у лиственницы или берёзы, и даже после смерти он обнимал древесный ствол – это Мис-нэ превратилась в дерево. Однако нет ничего ужаснее мести Мис-нэ, если человек, которого она полюбит, дома возьмёт себе другую женщину: Мис-нэ погубит обоих. Тот, кто познает Мис-нэ, будет вечно помнить её, томиться по ней и жить один. Лишь иногда, очень-очень редко, Мис-нэ будет навещать его, но невидимая и бесплотная. О её появлении оповестит яркий и внезапный запах пихты – и всё.
Разговор с Нахрачом на много дней разволновал Айкони. Она не знала, радоваться ей или тосковать. Может, она вообще уже умерла, её растерзал и съел Когтистый Старик, и вся её жизнь после той схватки с медведем – лишь сон мертвеца? Этот сон не отличить от яви, спящий никогда не выйдет за его пределы и не поймёт, живой он или мёртвый. Но Айкони придумала, как ей проверить себя. Она высыпала пепел из очага и ступила на него босой ногой. Сорни-Най не солжёт: если на пепле останется след – значит, она, Айкони, жива, а если следа нет – значит, она бестелесная тень мёртвой Айкони, над которой насмехается жестокий Хынь-Ика, который внушил наивной душе, что та ещё человек. Айкони присела над пеплом на корточки. След был.
Время двигалось к весне. Каждую ночь, повязав голову уламой, Айкони выходила из своей избушки и смотрела на небосвод. Синяя вода последних холодов вытекла из звёздного Кувшина, и он медленно опустился за кромку лесов. Над заснеженными соснами Ен-Пугола восходили другие созвездия, уже весенние: Спутанный Невод, Росомаха и Рогатина. Раскинув прозрачные крылья, над тёмной тайгой неподвижно летела утка Лули, которая во время потопа клювом достала землю со дна моря. Звёзды мерцали – это возле очага Великая Мать покачивала Колыбель Зверей. Замер, озираясь, Шестиногий Лось. Где-то над Кондой поблёскивала робкая звезда Маленькая Собачка.
А днём всё ярко сверкало, будто кто-то оттачивал ножи: острые лучи солнца, сосульки, изломы наста. Ёлки освобождались от снега и поднимали лапы. Айкони ходила по чёрствому насту и не проваливалась. В лесах сейчас было просторно и пусто. Лёд на болоте влажно потемнел, набух и тихо погрузился, уступая воде. Остров Ен-Пугол окружило прозрачное талое озеро. Переполнив низину болота, оно протоками растекалось по тайге. Высоко в небе плыли гусиные стаи. На обогретых склонах холмов оголялась рыхлая почва, покрытая прелым прошлогодним опадом. Мётлами торчали голые прутья кустов. Вытаявшая земля воистину была такой, какой давным-давно создала её утка Лули: шерстистой и когтистой.
Айкони не забывала про Ике-Нуми-Хаума. Идол угрюмо возвышался над поляной капища, закутанный в истлевшие, рваные шкуры, под которыми виднелась ржавая кольчуга. Руки-обрубки. Глаза-гвозди. Лосиный череп на голове. В обгорелой пасти – льдина. Айкони набрасывала на лицо Ике свою уламу, но идол не отзывался. «Надо дождаться сильного ветра, – думала Айкони. – Ветер принесёт известия». Однако ветреные дни приходили и уходили, лёд во рту идола растаял, а Ике всё равно упрямо молчал.
По Конде прокатилось половодье, затопило прибрежные леса, а потом отступило. Вспыхнули и рассеялись россыпи подснежников, ивы и берёзы покрылись прозрачной листвой, зазеленела первая трава, болотная вода вернулась в свои границы и задумчиво почернела. Молодые волчата учились ловить мышей. Тайгу опутал неумолчный птичий щебет. Прогромыхали ранние, свежие грозы. Над отогретыми бочажинами задымились комары. Валежник обрастал мягким и влажным мхом. Безлюдье аукало кукушками.
Ен-Пугол обсох на солнце. На его соснах застучали дятлы. Каждое утро Айкони приходила к идолу. Опасливо глядя снизу вверх, она широким движением руки накидывала на голову Ике платок, а потом пятилась, чтобы лучше видеть, но в складках уламы не проявлялось никакого смысла.
…В день солнцеворота Нахрач встречал в Ваентуре князя Сатыгу из Балчар. Сатыга приплыл, чтобы вместе с Нахрачом принести жертву вакулю, богу Конды. Всё-таки река общая, и дар тоже пусть будет общий. Так выйдет дешевле, решил Сатыга. В жертву назначили козу с чёрным пятном на лбу.
– Бог, я на твою спину сажусь, – залезая в лодку-облас, сказал Нахрач.
Сатыга уже устроился на носу. Коза смирно лежала на дне, но Сатыга придерживал её за рог. Воин Ванго с силой толкнул облас, посылая его на глубокую воду. Вогулы Ваентура и гости из Балчар толпились на берегу. Нахрач уверенными гребками погнал лодку к середине реки, где её подхватило неторопливое течение. Тёмная Конда на стрежне дрожала под ветерком, изредка покрываясь прядями пены. За обласом на верёвке плыл плотик. Он дёргался от толчков и зарывался в воду. Ваентур отдалялся.
Нахрач положил весло и принялся подтягивать плотик ближе к лодке. Жертвоприношение надо было совершить поскорее, не то Конда унесёт облас, и никто в Ваентуре ничего не увидит. Сатыга встал на колени, с натугой поднял козу и перенёс её через борт на плотик. Коза испуганно затопталась по брёвнышкам, готовая прыгнуть обратно в облас, и заблеяла.
– Вакуль, бери еду! – негромко и требовательно крикнул Нахрач, взял весло и гулко хлопнул лопастью по воде.
– Не бей бога! – всполошился Сатыга.
– Он глухой, – бросая весло, пояснил Нахрач.
Коза обеспокоенно перебирала копытцами. Хвост и уши у неё дрожали, а ноздри шевелились.
– Кто-то бежит к нам! – вдруг заметил Сатыга.
Нахрач повернулся, рассчитывая увидеть след плывущего вакуля, но из-за поворота реки к обласу князей приближалась долблёная калданка.
– Это Айкони, – прищурившись, узнал Нахрач.
Айкони не застала Нахрача в Ваентуре, запрыгнула в лодку и бросилась искать князя на реке. Калданка стукнула носом в облас.
– Нахрач! Ике заговорил! – взволнованно сообщила Айкони, хватаясь за борт обласа. – Он сказал, что на Конду идёт русский шаман!
– Не надо его бояться, – ухмыльнулся Сатыга. – Этот старик ничего не может сделать. Он просто обманщик.
– Он не обманщик, – возразил Нахрач. – Ты не знаешь.
– Я знаю! – заверил Сатыга. – Он сказал мне, что моё горе по сыновьям утихнет, если я надену крест, но горе не утихло. Мои сыновья не приходят ко мне даже во сне – ни Тояр, ни красивый Молдан.
Сатыга сунул руку в горловину своей кожаной рубахи и вытащил нательный кипарисовый крестик на шнурке.
– Возьми его, – Сатыга сорвал крестик и перебросил в калданку Айкони. – Отдай Ике-Нуми-Хауму в подарок от меня.
– Ты глуп, князь Сатыга, – с презрением сказал Нахрач. – Все люди считают русского старика обманщиком, потому он и побеждает наших богов. Но я знаю, что старик говорит правду, потому меня он не победит.
Сатыга и Нахрач отвлеклись на Айкони, отвернувшись от плотика с козой, и за их спинами вдруг коротко взблеяла коза, тотчас что-то могуче плеснуло, будто огромная рыба ударила хвостом, и страшно хрустнула древесина. Калданка и облас качнулись на волне, людей обдало брызгами. Сатыга и Нахрач схватились за борта, дружно пригнувшись для остойчивости лодки, и оглянулись. Оторванный от верёвки плотик плавал в пузырящейся воде, в которой клубилось бурое облако крови. Угол плотика был выкушен. На брёвнышках лежала рогатая голова козы.