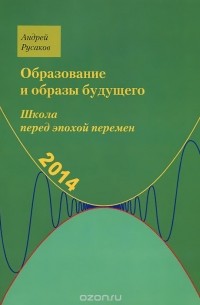Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 1. Что изменилось в школе за тридцать лет?
Где учатся хорошие ученики?
Лучше или хуже типичная нынешняя школа типичной советской? И в чём? И для кого? Да изменилась ли она вообще? Такие темы в разговорах звучат всё чаще.
Я попробовал найти работы, сравнивающие сегодняшнее положение дел в школах с советской эпохой.
Таковых, как ни удивительно, не обнаружил; четверть века перемен в системе образования особого исследовательского интереса, кажется, ни у кого не вызвали.
На поверхности (кроме сомнительной статистики по разным частным поводам) – только кликушеские возгласы двух родов:
а) была «лучшая в мире школа», которая подверглась варварским разрушениям;
б) все нынешние школьные беды – от неизжитого «наследия авторитарной педагогики», которое преодолевается путём благодетельных модернизаций.
Боюсь, даже громогласные сторонники подобных лозунгов в душе понимают, что не очень-то правы.
Попробуем без лишнего пафоса сравнить сегодняшнее положение дел в «типичной школе» с «обычной советской школой» рубежа семидесятых-восьмидесятых годов. (А потом попробуем дополнить такой поверхностный обзор состояния школьных дел двумя другими оценками: тенденций её развития/деградации и потенциальных возможностей).
Хорошую школу можно определять по-разному. Исходить из разных ценностей, ориентироваться на текущий ход жизни или на результаты работы. Попробую перечислить некоторые варианты.
«Хорошая школа – это место…»:
– где дают прочные знания,
или
– где развивают и укрепляют силы учеников,
или
– где хорошо готовят к поступлению в престижный вуз,
или
– где учат учиться в вузе,
или
– где стараются дать детям многообразный жизненный опыт – не только интеллектуальный, но и трудовой, социальный, нравственный,
или
– куда дети бегут с радостью, где царит увлекательная и воодушевляющая атмосфера,
или
– где помогают школьникам стать самостоятельными людьми, способными на ответственный личный выбор,
или
– где успешно обучают всех детей, каких бы способностей они не были,
или
– где уделяют особое внимание ученикам, проявляющим замечательные способности,
или
– где внимательно относятся к детям и стараются помочь в их трудностях, как учебных, так и жизненных.
Легко заметить, что приведённые варианты не исключают друг друга, но твёрдо поставленный акцент на тех или иных ценностях по-разному разворачивает работу школы.
Здесь первое отличие от советской эпохи – за последние четверть века появилось несколько сотен школ, в которых тот или иной ценностный приоритет определённо обозначен и признан большей частью учительского коллектива. «Определившиеся» школы составляют относительно небольшую часть – но в масштабах страны всё равно немалую; именно они находятся обычно в центре общественного внимания.
В семидесятые годы определение «хорошей» школы тоже могли обсуждать до бесконечности – но обычно все знали, какая конкретная школа в окрестностях считается хорошей, а какая «так себе» (и с такой оценкой все были готовы согласиться). Теперь же школа-идеал для одних родителей вызовет у других лишь ироничную усмешку. Школы могут быть по-разному хороши и по-разному дурны – к этому начинают привыкать.
И всё-таки «определившиеся» – это чаще всего необычные школы. Их явное меньшинство. А «типичная» нынешняя постсоветская школа большого города вполне сопоставима с «типичной» школой семидесятых годов – её ценности и задачи так же размыты, как и в советское время, существенных перемен в методах ведения занятий не произошло, оценивать её возможно столь же размыто-обобщённо.
В поисках «твёрдых знаний». Когда восклицают о «лучшей в мире советской школе», почему-то напирают в особенности на то, что она давала «твёрдые знания».
Этого я понять, увы, не могу. Далее я постараюсь защищать достоинства школы советского типа – но, боюсь, что как раз «твёрдых знаний» среди них не обнаружить.
Иностранному языку советская школа научала исключительно плохо (вероятно, в этом она могла бы считаться одним из мировых антирекордсменов в сопоставлении количества отводимых учебных часов и их КПД).
Химии – большая удача, если два-три человека в обычном классе могли бы сдать честный экзамен больше, чем на тройку.
Школьные занятия физкультурой были смехотворны, а уж изобразительные или музыкальные умения осваивать надо было заведомо в другом месте.
«Знаниям по истории», возможно, «учили хорошо» – но только если не вспоминать, что это за знания! Прочитав «Историю» Карамзина, выпускник советской школы убеждался, что ему не известно почти ничего из важнейших фактов истории своего отечества; восстание Спартака как центральное событие античности или крестьянская война в Германии как квинтэссенция XVI века – подобное нелегко сегодня признать за «основу целостной картины мира»; внеевропейской истории учебники и вовсе посвящали несколько маловразумительных страниц.
Как расценивать «твёрдость знаний по литературе», когда они сводились к искусству написать сочинение (жанр, ни для чего кроме экзаменов не пригодный) – вопрос для меня и вовсе загадочный.
Боюсь, что предметом обсуждения остаётся лишь тезис, что хорошо учили физике и математике. Конечно, не всех, но хотя бы половину… хотя бы четверть…
Где учились советские дети? Но сначала придётся сделать существенное уточнение. Если копнуть биографию выдающихся молодых учёных позднесоветской эпохи, то обнаруживается, что большинство из них – выпускники отнюдь не рядовых школ. А очень даже необычных – физико-математических. Это совершенно другой мир, в который тщательно отбираются способные дети и уникальные учителя, погружающиеся в режим обучения огромной интенсивности, тщательности и систематичности.
Выпускникам физматшкол отнюдь не говорили в вузах, чтобы «они забыли всё выученное в школе»; напротив, для них первый курс смотрелся по большому счёту пройденным материалом.
Сегодня в этой сфере нет поводов для печали: старые физматшколы хуже не стали, к ним прибавилось немало новых. С этой стороны за элитное российское образование можно быть достаточно спокойным.
Только к достоинствам «обычной советской школы» это отношения не имеет.
Но по-настоящему оттеняет сомнительность тезиса о «лучшей в мире школе» забвение другой части системы советского образования: действительно уникальной, действительно выдающейся по своим масштабам и результатам.
Законы в ней царили прямо противоположные школьным:
– здесь работали как раз те, кто в школе не очень-то уживался,
– здесь не было ни стандартизации программ, ни пафоса «систематичности» обучения, ни «борьбы за дисциплину»,
– зато здесь царил дух разновозрастных учебных сообществ, обучения старшими младших: старшеклассниками – подростков, студентами – старшеклассников, аспирантами – студентов (и в то же время, напрямую – подростков профессорами).
Речь идёт о математических кружках, летних школах, научно-технических клубах, очно-заочных школах и т. д.
Именно здесь соединялись «увлечение» и «обучение» огромной части тех ребят, чьи успехи в физике и математике школа любила приписывать себе. (Замечу, что наиболее естественным и массовым ходом позитивных перемен в начале девяностых годов стали как раз преобразования школьной жизни на основе её тесной интеграции с людьми, программами, организационными формами и духом «дополнительного» образования).
Со сферой дополнительного образования в постсоветской России не всё так радужно, как с физматшколами. Но всё же мир очно-заочных школ, домов творчества, кружков, клубов, летних учебных лагерей и т. п. в целом не испытал ни качественного взлёта, ни падения. Правда, он пластично менял свою географию; где-то дополнительное образование заметно развивалось и расширялось новыми жанрами, людьми и программами, где-то распадалось, к кому-то приходило, где-то становилось недоступным. В целом оно отнюдь не сдаётся (хотя в образовательной политике никем не рассматривается всерьёз и выглядит объектом государственного призрения и презрения одновременно).
Теперь добавим к дополнительному образованию и физматшколам непосредственное обучение детей родителями в семьях, репетиторство и курсы при вузах для старшеклассников.
Многое в советской системе образования помогало школьникам (хотя и явному меньшинству из них!) успешно учиться по физике и математике. Только не исключено, что «лучшая в мире школа» была наименее значимой частью этой системы.
Школа учит или дети учатся? Ещё одна сторона дела. Так ли правильно списывать на достоинства школы плоды усилий по сознательному самообучению? Для множества ребят советской эпохи инженерные специальности виделись весьма достойным жизненным уделом; знание математики и физики было необходимой путевкой туда.
Не правда ли, в девяностые такие приоритеты несколько пошатнулись… Предсказуемо пошатнулась и число тех, кто стремится вникать в физику.
Но обратим внимание на характерный обратный процесс: качественное улучшение знания английского языка современными выпускниками. Уровень учителей английского за тридцать лет вряд ли вырос, скорее наоборот («англичанки» легче всех своих коллег могли найти за пределами школы хорошо оплачиваемую работу). Обучение не улучшилось – а научаются школьники куда лучше, чем прежде. Просто на вопрос: «Зачем нам этот английский?» – ответы есть у большинства, а на вопрос: «Зачем нам эта физика?» – у очень немногих.
Вспомним и другой общепризнанный факт: насколько бойко большинство ребят осваивает в меру потребности любые компьютерные программы вне зависимости от школьных занятий.