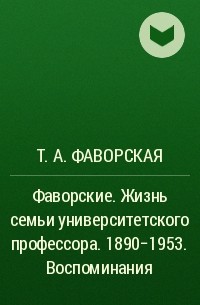Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
1.5. Мария Маркеловна. Безо, ставшее традицией. Моя учеба в гимназии Э. П. Шаффе
Вскоре после Пасхи, как всегда, начались экзамены, прошли, как всегда, хорошо, перешли в четвертый класс. Таня уехала в Павловское, Коновалова – в Забаву, мы стали собираться в Безо. Как-то раз после обеда, за чаем, отец рассказал нам, что этой весной окончил Высшие женские курсы его курс, и среди выпускниц есть одна очень способная девушка – Мария Маркеловна Домброва, которую он устроил на работу в лабораторию Министерства финансов к Михаилу Григорьевичу Кучерову. Лето ей придется проводить в городе, квартира у нас в саду, Марии Павловне одной скучно, так вот он хочет предложить Мария Маркеловне пожить летом у нас. Никто не сделал никаких возражений, в глубине души мне это показалось немного странным, но я не обратила на это сообщение никакого внимания. Через несколько дней Мария Маркеловна пришла к нам знакомиться. Это была среднего роста девушка с гладко причесанными волосами, с заколотой сзади косой, в юбке и скромной кофточке с белым воротником. Она поблагодарила за приглашение, выпила чашку чая, договорилась с Марией Павловной о дне переезда и ушла. Вскоре мы уехали в Безо, а Мария Маркеловна поселилась у нас с Марией Павловной. Кроме них в комнате для домработницы ночевал Василий Ломакин, карауливший лабораторию и квартиру. После работы Мария Маркеловна обедала дома вместе с Марией Павловной, а потом шла в лабораторию к Алексею Евграфовичу продолжать свою научную работу. Летом в лабораториях всегда кто-нибудь работал. В этом году там работал Владимир Андреевич Мокиевский, в своей лаборатории заканчивал докторскую диссертацию В. Е. Тищенко, работала и другая молодежь в других лабораториях; работавшие заходили друг к другу передохнуть, поболтать, слышались смех и шутки, даже тихий и молчаливый Тищенко весело шутил.
Возвращаясь из лаборатории, Мария Маркеловна пила вечерний чай с Марией Павловной. Мария Павловна всегда была пунктуальна и педантична: чай подавался строго в определенное время, но она одна его не пила, дожидалась Марию Маркеловну. На почве этого чая между ними возникали разногласия, Мария Маркеловна не привыкла так строго соблюдать режим дня, она жила всегда одна и не придавала значения тому, будет она пить чай в девять или в половине десятого. Кроме того, не всегда можно было закончить работу в точно назначенный час, к тому же, помимо всего прочего, существовали особые обстоятельства, благодаря которым Мария Маркеловна иногда сильно запоздывала к чаю или вообще его не пила.
Она еще раньше была знакома с Владимиром Андреевичем Мокиевским, оба они преподавали в Смоленской школе для рабочих. Они иногда уходили из лаборатории не домой, а шли гулять, и тогда, конечно, было не до чаю. Мария Павловна, не дождавшись компаньонки, пила чай одна, а по возвращении Марии Маркеловны высказывала ей свое недовольство. Иногда Марии Маркеловне удавалось устроить себе среди недели свободный день, и тогда они с Владимиром Андреевичем уезжали за город. Но в общем они жили довольно мирно, много времени проводили вдвоем.
Этим летом в окно одной из наших комнат влетел кенарь. Мария Павловна посадила его в клетку и послала Василия узнать – не улетел ли у кого-нибудь кенарь во дворе. Во дворе владельца кенаря не оказалось, и он остался жить у нас. Пел он замечательно хорошо. Клетка с ним стоял у меня в комнате, он вообще много пел, но особенно усердно он распевал во время уроков английского языка. Стоило нам с Miss Violet начать разговаривать, как молчавший до того кенарь начинал петь и пел все время урока. Отец смеялся и говорил, что английский язык – это птичий язык. Разговоры на французском и немецком языке не производили такого стимулирующего действия на пение кенаря. Он много лет прожил у нас и пел все так же хорошо.
В своих письмах к матери Мария Павловна всегда передавала всем приветы от Марии Маркеловны. А мы опять жили в Безо, все на той же даче. В этом году у нас с отцом прибавилось еще одно занятие: мы стали играть в кегли. Лангсеппы выстроили кегельбан, были организованы мужские и дамские группы, группы для «девушек», вернее, для подростков, и детская группа (фото 30). Я еще не говорила до сих пор об одном моем недостатке, который мне много напортил в жизни: я была застенчива, подойти к кому-нибудь чужому и спросить о чем-нибудь было для меня мучением. Когда я узнала, что организована группа девушек, я тоже захотела играть в кегли. Узнав дни и часы, когда играла эта группа, я пошла на кегельбан. Пришла, остановилась около него и смотрю. Играют все больше немецкие девицы, есть среди них и знакомые. Последние увидели меня и спросили: «Вы тоже хотите играть?»
Так я начала играть в кегли. Мужчины бросали шар одной рукой, женщины и девушки – двумя. Я играла хорошо, редко шар мой попадал в борт. Нанятые мальчики-эстонцы посылали сыгравшие шары обратно по специальному желобу. В Везо образовались две группы дачников – русских и немцев. Они постепенно стали знакомиться друг с другом, сообща участвовать в летних развлечениях: играли вместе в кегли, устраивали вместе детские праздники, в которых участвовали и эстонские дети, нанимали «Петрушку» и шарманщика, который играл танцы, устраивали бег в мешках, однако все это происходило не чаще одного раза в лето. Кроме того, немцы устраивали немецкий спектакль, о котором я уже говорила.
Фото 30. Безо. У кегельбана
Отец познакомился с учителем местной школы, из разговоров с ним узнал, что помещение школы мало и тесно, учебников не хватает. И вот он задумал организовать «общество вспомоществования сельской школе в деревне Безо, Везенбергского уезда, Эстляндской губернии»: на собранные с членов общества деньги арендовать у барона Палена участок земли и выстроить школьный дом с хорошими классами, с большим залом и террасой. Зимой зал будет играть роль рекреационного зала, а летом в нем можно будет устраивать спектакли, концерты, танцы, базары и вырученные деньги отдавать в пользу школы. Таким образом, школа получит хорошее здание и будет иметь деньги для покупки учебников и на всякий другие нужды. С другой стороны, дачники будут иметь возможность устраивать всевозможные развлечения. Идея организации общества понравилась всем дачникам. Запись в члены общества проходила успешно, был выбран совет общества, Алексея Евграфовича выбрали председателем. Совет сочинил устав общества, который был утвержден в Петербурге в соответствующей инстанции. Когда все было оформлено, отец поехал в Пальме к барону Палену. Тот принял его очень любезно, показал ему большой портрет своего предка, участвовавшего в убийстве Павла I. Александр I, взойдя на престол, сослал его в его имение Пальме, в котором он и прожил остаток своей жизни. Барон охотно сдал обществу в аренду участок земли – сыпучий песок с несколькими соснами, и к зиме школьный дом был выстроен. Эстонские ребята стали учиться в просторных, светлых классах. К отцу постоянно кто-то заходил по делам общества, особенно часто И. М. Генглез, казначей общества. Он приходил к отцу, а его жена – к матери. Из всех дачных знакомств это было наиболее прочное – супруги Генглез приезжали к нам зимой из Гатчины. Несмотря на игру в кегли и теннис, я по-прежнему дружила с Луизой, среди дачных знакомых я не нашла себе подруги и проводила время с Луизой охотнее, чем с ними.
Вот опять кончается лето, почти все знакомые уже разъехались, букет собран, лошади поданы, мы уезжаем, я выхожу из кареты, быстро поднимаюсь по лестнице с букетом, на площадке перед дверью, как всегда, стоит Мария Павловна, а кто же это еще с ней? Ах, это Мария Маркеловна, зачем она здесь? Совсем незачем ей здесь быть. Я сухо здороваюсь с ней и прохожу в комнаты. На следующее утро Мария Маркеловна уехала от нас. Позже она рассказывала мне, что хотела уехать не дожидаясь нашего приезда, но Мария Павловна заставила ее остаться, говоря, что если она уедет, то можно будет подумать, что они поссорились.
В лаборатории Министерства финансов, где уже несколько лет работал Ф. В. Смирнов, Алексей Евграфович еще весной познакомил его с Марией Маркеловной, и тот принял в ней участие. Незадолго перед тем Смирнов поселился со своей женой Лидией Семеновной Миримановой в большой хорошей квартире в районе Технологического института, и он предложил Марии Маркеловне поселиться у них. За 50 рублей в месяц она имела у них комнату и полный пансион. Лидия Семеновна была тоже врачом по специальности и была старше Федора Васильевича лет на пять. Она была маленького роста, некрасивая, но, подобно ему, доброжелательная к людям. Она с юных лет любила Федора Васильевича, но он не обращал на нее внимания, избалованный своими успехами у женщин, и только теперь, на старости лет, они сошлись и поселились вместе. Они оба отнеслись к Марии Маркеловне как к родной, и она чувствовала себя у них как в семье. Кроме нее, в их квартире жил то племянник Федора Васильевича, Ю.Кадо, то сестра Федора Васильевича, Надежда Васильевна (или, как ее называли, Дина). Она жила в Твери с матерью и приезжала гостить к брату, которого она обожала. После смерти матери она поселилась у него.
Поселившись у Федора Васильевича и Лидии Семеновны, Мария Маркеловна часто приходила к нам по вечерам. Услышав звонок, я заглядывала в окно, выходящее на лестницу, и, увидав Марию Маркеловну, говорила себе: «А, это к Марии Павловне!» – и шла к себе в комнату. Мария Маркеловна, действительно, сидела обыкновенно у Марии Павловны и только к чаю выходила в столовую, меня она не интересовала. 26 января (8 февраля) были именины Марии Маркеловны, Мария Павловна пошла к ней в гости и понесла ей от нашей семьи испеченный нашей кухаркой слоеный пирог с черносмородиновым вареньем. Такой пирог подносился потом Марии Маркеловне каждые ее именины.
Школьные занятия наши шли своим чередом, к прежним предметам прибавился еще славянский язык, который мы изучали с Анастасией Ивановной. Весной на экзамене мы получили все по пятерке, и экзаменовавший нас учитель сказал, что мы знаем его как настоящие славяне. Жили мы по-прежнему дружно, Таня иногда ленилась, да и способности у нее были похуже. С Анастасией Ивановной мы писали много изложений и сочинений. Она не любила, когда мы уснащали свои творения лишними словами, повторами, ненужными эпитетами, дополнениями и определениями. «Динь, динь, динь!» – говорила она, отдавая сочинение. – «Много звону, а мыслей мало». Мария Федоровна по-прежнему уделяла много времени нашим урокам и пополняла нашу библиотеку нужными книгами. К Тане она всегда относилась строже, чем к нам с Липой. Из нас двоих она больше любила Липу, считала меня эгоисткой, мало думающей о посторонних, об общем благе. Школа наша существовала последний год, пятый класс, в который мы весной должны были держать экзамены, был уже одним из старших классов, в нем начинались алгебра и физика, и дома заниматься такими предметами было уже трудно, да и остальные предметы проходили уже более серьезно. Кроме того, мы с Липой оставались вдвоем, Таня весной переезжала в Казань, куда ее отца назначили профессором петрографии Казанского университета. Сестры Липы уже учились в гимназии Шаффе, туда же должны были поступить и мы.
Этот год был омрачен начавшейся японской войной. Из газет и из разговоров старших я узнавала о наших поражениях и происках Англии. С Miss Violet я не говорила о войне, но на большом листе толстого клякспапира, покрывавшем мой письменный стол, к уже имеющимся разным словам, вычислениям и закорючкам я добавила слова, которые часто попадались в газетах при обсуждении политики Англии: «Алчный Альбион». Пусть, думаю, Miss Violet увидит, как я отношусь к ее любимой Англии. Изучение русской истории приучило нас к мысли, что русские всегда побеждают, поэтому известия о поражении наших войск вызывали тягостное недоумение.
Отец тяжело переживал эту войну. Но война была далеко, в Петербурге же и вообще в России жизнь шла своим чередом, люди по-прежнему работали, учились, веселились. Ко мне на рождественские каникулы приехали Луиза и Альма. Я написала им заранее приглашение и была очень рада, что родители их отпустили. Я старалась их развлекать, сходила с ними в театр на дневное представление, брала их на елку к Тищенко и к Паршаковым.
После Нового года Поленовы стали готовиться к отъезду. После Пасхи стали сдавать экзамены, и на моем и Липином экзаменационном листках на этот раз было написано: «Принята в 5 класс». На экзамене по французскому языку на этот год вышла неприятность: Таня провалилась. Ей дали переэкзаменовку, но ведь за несколько дней не наверстаешь того, что было упущено за год. Ей поставили «удовлетворительно» только потому, что она уезжала в Казань, а не поступала в нашу гимназию.
Весной я получила письмо от Альмы, в котором она сообщала, что у ее мачехи родилась дочка, родители просили Алексея Евграфовича быть ее крестным. Отец согласился быть крестным маленькой Хильды. Когда мы собрались на дачу, то повезли в подарок крестнице игрушки и материи на платье. Незадолго до отъезда в Безо к нам пришла Мария Маркеловна, я собиралась пойти в сад, она попросилась со мной, мы с ней очень хорошо погуляли и даже играли с ней в палочку-воровочку. С этой прогулки я совсем переменила свое отношение к ней, а она говорила мне потом, что я ей понравилась с первого взгляда, и ей очень хотелось со мной подружиться. Уезжая, мы приглашали ее приехать к нам в Безо, но она решила поехать на море в Геленджик. Она работала в своей лаборатории по вольному найму, то есть не занимала штатной должности, женщины не имели права занимать такие должности в лабораториях казенных учреждений, но зато она имела возможность поехать на месяц в отпуск.
Мы жили в Безо три месяца, я всегда считала, что июнь – это месяц цветов, июль – месяц ягод, август – месяц грибов, но земляника начиналась уже в конце июня, приблизительно с Иванова дня (24 июня старого стиля). Эстонцы, а вместе с ними и дачники, праздновали этот день, накануне вечером на пляже жгли костры. Костры складывали большие, в рост человека и выше, зажигали их с наступлением сумерек. Мы своего костра не складывали, но после ужина, который устраивали немного раньше, мы с отцом и с Луизой и Альмой отправлялись на море и любовались зрелищем горящих костров, ярко пылавших на фоне темного неба и моря. После Иванова дня начиналось настоящее лето, погода становилась более теплой, так же как и вода в море. Открывался купальный сезон.
Этим летом у Луизы и Альмы прибавилось дела, надо было ухаживать не только за параличной мачехой, но и за новорожденной девочкой. На долю Луизы пала стирка и полоскание пеленок. С этой целью она отправлялась к ручью, я ее сопровождала, и мы там вели с ней задушевные беседы. У нас гостили по обыкновению Н. А. Прилежаев и С. А. Букина, больше гостей не предвиделось, но однажды, около 10 июля, возвращаясь после купания домой, я увидела следы колес, ведшие к нашим воротам. Кто-то приехал! Иду и глазам своим не верю – Мария Маркеловна. Она, как и собиралась, поехала в Геленджик, доехала до Новороссийска и там узнала, что катера в Геленджик не ходят – забастовка, и вообще в тех местах неспокойно. Какой уж там отдых. Она решила вернуться, взяла сразу же билет на обратный поезд и уехала в Петербург. Там она вспомнила о сделанном ей приглашении поехать в Безо и приехала к нам. Я была очень рада ее приезду, чем больше я ее узнавала, тем больше она мне нравилась. 15 июля были именины Владимиров, и я написала поздравление Володе Тищенко. Единственная фраза, которую я добавила к поздравлению, была: «У нас гостит Мария Маркеловна». Я узнала потом, что Елизавета Евграфовна, прочитав мое письмо, сказала: «Нашла, что написать, кому это интересно».
Елизавета Евграфовна была характером похожа на свою мать, такая же эгоистичная, неласковая, самовлюбленная, резкая, нетерпимая к тем, кого она невзлюбит. Она с детства не дружила с отцом и всегда подчеркивала, что она иначе относится к Андрею Евграфовичу, чем к отцу. Когда Андрей Евграфович приезжал в Петербург, он останавливался всегда у Тищенко, и Елизавета Евграфовна всячески старалась угодить старшему брату. Она не могла простить отцу, что он обогнал Вячеслава Евгеньевича (ее мужа), не могла простить его успеха в науке, всегда пренебрежительно отзывалась о нем, говорила, что Вячеслав Евгеньевич – труженик, а Алексей Евграфович – лентяй. Она не упускала случая в разговоре с матерью, где только возможно, сказать что-нибудь плохое про отца, чем, конечно, расстраивала ее, в то время как ее надо было оберегать от волнений. Мать никогда не умела оборвать ее и часто плакала после ее нападок на отца. Отец знал, как относится к нему сестра, но не страдал от этого, особо нежных чувств к ней тоже не питал, но всегда хорошо относился к ее семье, к своему товарищу, Вячеславу Евгеньевичу Тищенко, он видел его недостатки и признавал его достоинства, и, где мог, способствовал его продвижению.
Однако я далеко отвлеклась от того времени, когда к нам в Безо приехала Мария Маркеловна. Она прожила у нас весь остаток своего отпуска, она старалась, где могла, быть полезной матери, чистила под нашим руководством ягоды, хотя, как я потом узнала, терпеть не могла этого занятия, сшила мне летнее платье, которое потом стало моим любимым платьем. По летам обычно Мария Маркеловна ездила работать статистиком в Самару, сама она была родом из Самарской губернии, поэтому она привыкла к жаркой погоде, и оттого погода в Безо казалась ей холодной. Как я уже говорила, я летом всегда ходила в одном платье, а Мария Маркеловна каждый день ходила в драповом пальто – ей все казалось холодно.
Вскоре приехала в отпуск Мария Павловна, у нее отпуск был всего лишь две недели. За время пребывания у нас Марии Маркеловны я с ней подружилась, так как чувствовала, что она очень хорошо ко мне относится. В начале августа она уехала, ей, как и другим гостям, поручили отвезти в город ящик с вареньем, причем наказывали не сдавать его в багаж и везти с собой в вагоне. Но проводник оказался непреклонным и не пустил ящик в вагон, пришлось сдать его в багаж, и Мария Маркеловна очень волновалась, что банки разобьются, что скажет тогда Наталья Павловна! Мария Павловна, узнав, что варенье сдано в багаж, осталась очень недовольна. Совсем расстроенная, Мария Маркеловна поехала на вокзал получать багаж, повезла его к нам домой, спешно распаковала. Все банки доехали в полной сохранности. Мария Маркеловна считала себя в долгу перед нами и в благодарность за гостеприимство заказала и подарила мне золотой овальный медальон с моей монограммой. Мать неодобрительно отнеслась к такому поступку, считала, что это лишнее, другие гости ограничивались обычно коробкой конфет. Мария Маркеловна дала уменьшить фотографии моих родителей, снятые перед их свадьбой, и вставила их в медальон. Я лично была очень довольна, медальон этот у меня цел и сейчас.
В этом году мы вернулись в город немного раньше обычного, нужно было успеть к 1 сентября сшить мне коричневое платье и черный передник. Такая форма была в старших классах нашей гимназии. Отец купил мне сумку для книг и тетрадей. Гимназия наша помещалась на углу Большого проспекта и 5-й линии, она занимала весь большой трехэтажный дом, только на первом этаже на углу помещался небольшой магазин фарфоровой и фаянсовой посуды. На самом углу на третьем этаже был полукруглый балкон, на его перилах была укреплена вывеска с надписью: «Maison deducation». Этот балкон был как раз на нашем классе, но дверь на него была заделана. Дом этот был старый, он не был построен для учебного заведения. Сначала у Э. П. Шаффе была не гимназия, а пансион, число учениц было невелико, постепенно оно увеличивалось, помещение расширялось, а когда вместо пансиона стала гимназия, она заняла весь дом. В доме были внутренние лестницы, темные комнаты и темные переходы. Кроме большого зала, в котором вся гимназия собиралась утром на молитву и где мы гуляли во время перемен, был еще гимнастический зал. При гимназии был интернат, там жило небольшое число девочек из нашего класса. На самом верху жили некоторые классные дамы. Вход в гимназию был с 5-й линии, недалеко от угла. Подъезд был небольшой, но с каким трепетом открывали мы эту дверь, когда шли на экзамен. Кроме гимназии в этом доме помещался еще детский сад, которым руководила толстая, добродушная тетя Саша.
Но вот настало 1 сентября. Я зашла к Коноваловым за Липой и отправилась вместе с ней и ее сестрами в гимназию. Я каждый день заходила за Липой и ждала в передней несколько минут, пока девочки соберутся. Варвара Ивановна всегда выходила их провожать в капоте в переднюю и давала им каждый день по чистому носовому платку. Проводив детей, она снова ложилась. Я уходила из дома в четверть девятого, меня будила горничная Наташа и заплетала мне косу, я пила молоко с булкой и заходила в спальню проститься с матерью, она и отец вставали позднее. Кроме сумки с книгами, у меня в руках была еще плетеная корзиночка с крышкой, в которой лежал мой завтрак: два бутерброда с колбасой, обыкновенно «Любской» (так называлась копченая колбаса типа теперешней «Советской»); бутылочка с молоком такого размера, как рожки для грудных детей, она плотно закупоривалась и укладывалась плотно в корзинку. Были в корзине еще яблоко и кусок шоколада.
Итак, 1 сентября мы первый раз пошли с Липой в гимназию. У каждого класса внизу был свой шкаф для верхней одежды, закрытый спереди металлической сеткой. Когда мы пришли в класс, нас встретила наша классная дама Анна Семеновна Кампе, пожилая немка в синем платье. Все почти места уже были заняты, Анна Семеновна указала нам с Липой места, мне – в предпоследнем ряду, Липе – на один ряд ближе. Со мной рядом сидела Катя Щукарева, рядом с Липой – Термина Гюннер. Мы с Липой не осмелились сказать, что мы подруги и хотели бы сидеть рядом, и так весь год и просидели на вышеуказанных местах. Классы в нашей гимназии были небольшие по числу учащихся, в нашем классе было, когда мы поступили, 25 человек: Грот, Гуммель, Гюннер, Диксон, Додонова, Казицына, Кох, Коновалова, Леви, Ленц, Мущенко, Развадовская, Сыромятникова, Сюннеберг, Трейман, Тацки, Фаворская, Хвольсон, Шлезингер, Штейман, Шевырева, Щукарева, Эбергардт и Эйгнер. В таком порядке обыкновенно Анна Семеновна делала каждое утро перекличку.
Уже по перечисленным фамилиям видно, что среди девочек нашего класса было много немок. В то время на Васильевском острове жило много немецких семей среднего достатка, многие девочки и были из таких семей, но были и дети из богатых семей. Аля Грот была внучкой известного академика Грота, Маня Эйгнер была единственной дочерью богатых родителей, она много болела и не кончила с нами курса. Некрещеных евреек у нас не было, но были крещеные православного и лютеранского исповедания. Маруся Развадовская была полька-католичка, у нее не было родных в Петербурге, и она жила в интернате. Оля Тацки была из военной семьи, у нее были братья, учившиеся в саперном юнкерском училище, говорили, что родные ее были венгерского происхождения. Вера Сюннеберг была православная финка, она держалась особняком, ни с кем не дружила, финны в то время в большинстве были настроены враждебно относительно русских. Хелла Ленц была внучкой известного физика Ленца, она была умная, симпатичная и красивая, она дружила с Юлей Додоновой, тоже способной и милой девочкой. Обе они были из состоятельных семей.
Вот краткая характеристика некоторых девочек, с которыми мне предстояло учиться в течение четырех лет. Классная дама следила за порядком в классе, отмечала отсутствующих, проверяла дневники и тетради, составляла ведомости успеваемости, которые выдавала ученицам каждую четверть, с тем чтобы они смогли снести их домой и показать родителям. С нами она говорила один день по-французски, другой по-немецки. Никаких неприятностей мы от нее не имели, но и дружеских, теплых отношений тоже не было. Класс наш считался сильным, особых шалостей за нами не числилось. Каковы были наши учителя? Закон Божий преподавал нам отец Фокко, мы звали его всегда батюшкой. Фамилия его, скуластое лицо, черные глаза и волосы говорили о нерусском его происхождении, хотя говорил он по-русски очень чисто. Как законоучитель, он значительно отличался от обычных батюшек, преподающих Закон Божий. В его объяснениях и рассказах чувствовалась большая эрудиция и разносторонняя образованность, значительно более свободный образ мыслей, чем это подобает священникам, воспитывающим юношество в духе покорности церкви и царю. Это был в высшей степени доброжелательный и гуманный человек. Некоторые находили, что он по внешности напоминал Гапона.
Русский язык преподавал, когда мы поступили, Кораблев, недели через три после начала занятий он ушел из гимназии, и нашим учителем стал Яков Алексеевич Автамонов (фото 31). Это был сравнительно молодой человек, небольшого роста, в очках, начинающий лысеть, горбатый; лицо его было некрасиво. Говорят, что горбатые люди обыкновенно бывают злыми, как бы мстят другим за свое убожество, на Якове Алексеевиче это совсем не оправдалось. Он был добрейший души человек, скромный, мягкий и прекрасный преподаватель, мы его очень любили и уважали. Учительницей французского языка была Зинаида Александровна Пиленко. Глядя на нее, никто бы не сказал, что она не француженка. Она училась во Франции, в Гренобле, произношение ее было безукоризненно, преподавала она живо и интересно, у нее, безусловно, был педагогический талант. Мы с ней изучали французский язык как таковой, его грамматику и более старую французскую литературу. Она была высокого роста, с хорошей гибкой фигурой и интересным лицом; одевалась она всегда в темные, но модные, несколько экстравагантные платья. Она была строгой, требовательной учительницей, иногда не прочь была съязвить. Мы занимались у нее с интересом, но любви к ней не чувствовали; она была умной и широко образованной, однако излишняя самоуверенность ее всегда ставила известную преграду между ней и ученицами.
Фото 31. Яков Алексеевич Автамонов (учитель русского языка)
Немецкий язык преподавала нам фрейлен Меттус, это была добросовестная, аккуратная немка, типа Анны Семеновны. Насколько мадмуазель Пиленко была интересной, яркой личностью, настолько бесцветной была фрейлен Меттус, как по внешности, так и в качестве педагога. Мы с ней изучали немецкий как язык, древнюю немецкую литературу, немецкие саги. По математике у нас было два учителя: Дмитрий Дмитриевич Франк преподавал алгебру и Михаил Александрович Образцов – геометрию. Дмитрия Дмитриевича мы любили за его живость, простоту, за несколько товарищеское отношение к нам, и преподавал он хорошо. Он еще был молод, брюнет с черными глазами и черной эспаньолкой, уроки его проходили живо и интересно. Прямой его противоположностью был Образцов. Он ходил всегда в форменном сюртуке (Дмитрий Дмитриевич формы не носил), медленной походкой проходил через класс, подходил к столу, облокачивался обеими руками на стол и медленно водил глазами по фамилиям учениц, написанным в классном журнале, и потом медленно, с расстановкой произносил чью-нибудь фамилию. Пока он это проделывал, в классе стояла такая тишина, что слышно было, как муха пролетит, все не спускали с него глаз и с замиранием сердца ждали, кого он назовет. Хоть и знаешь прекрасно урок, но поневоле делается страшно. Он был уже немолод, с большой лысиной, на кисти руки у него была большая шишка. Он был, вероятно, лучшим преподавателем, чем Дмитрий Дмитриевич, но мы его не любили, он держался сухо и официально. Нам было известно, что он любитель музыки и балета, постоянный посетитель Мариинского театра.
Физику нам преподавал Александр Антонович Добиаш, лаборант (по-нынешнему – ассистент) Университета, ученик Д. С. Рождественского. Это был тоже один из наших любимых учителей. Он держался всегда просто, ходил быстро, слегка нагнув вперед голову. Небольшая бородка, светлые, торчащие вперед усы, светлые волосы слегка торчат дыбом. Преподавал он живо и интересно, мы занимались у него хорошо, хотя он был достаточно требовательным. Это был не учитель средней школы, а молодой ученый, увлекавшийся наукой, и как человек он был симпатичный.
Вот с историком нам не повезло, все три года у нас преподавал Тарасов (я даже не помню его инициалы), преподавал скучно, бесцветно, очень мало отступал от учебника, он вел уроки как по русской, так и по средневековой истории. Он был высокого роста блондин с правильными чертами лица, но глаза его и лицо были какие-то невыразительные, – во всяком случае, он не производил впечатление умного человека. Он носил форменный сюртук и представлял собой тип учителя-рутинера, не блистал и образованностью. Помню, как-то раз ему пришла охота проявить свое остроумие и ученость, и он стал объяснять нам, что значит слово «жандарм». Это слово французского происхождения, если его перевести на русский, то это значит «вооруженные Иваны». Мы с трудом удержались от презрительного смеха, этим переводом он показал свою безграмотность: слово «жандарм» по-французски пишется gensdarme, что значит «вооруженные люди». Если бы оно значило «вооруженные
Иваны», его надо было бы писать так: jeandarme, Иван по-французски Jean, я всегда удивлялась, что в нашей гимназии, где преподавание было так серьезно поставлено и где был такой хороший подбор учителей, существовал такой учитель, как Тарасов.
В пятом классе заканчивали изучение естественной истории, весной мы должны были сдавать по ней экзамены, и отметка шла в аттестат. В этом же году заканчивал в нашем классе свою педагогическую деятельность и наш учитель зоологии Аполлон Александрович Мялицын, дотягивал до пенсии. На его примере можно было видеть, как опасно давать детям имена, являющиеся синонимами прекрасного человека. Наш Аполлон был полной противоположностью прекрасному греческому богу. Маленького роста, с несоразмерно короткими ногами, с седой щетиной на изборожденном глубокими складками лице, с хриплым голосом от постоянного курения, пропахший табаком, прихрамывающий на одну ногу, неопрятный – таков был наш Аполлон. Преподавал он плохо, часто хворал и пропускал уроки, его додерживали до пенсии. География в пятом классе тоже хромала, преподававший ее в четвертом классе учитель болел, и его весь год заменяла то одна, то другая учительница. Учитель рисования Бродерсон довольно формально относился к делу, он давал нам срисовывать с цветных открыток цветы или плоды, придумывать узоры для каких-либо рукоделий. Хорошо рисовали у нас в классе два человека – Термина Тюнер и Аля Грот, остальные особых способностей к рисованию не имели. Бывали у нас и уроки рукоделия, преподавала седая, худенькая учительница с немецкой фамилией, она была суетлива, с высоким резким голосом. По ее заданию мы должны были связать на спицах четырехугольный кусок определенной величины, нашить его на картон и вырезать затем в нем четырехугольную дыру, а затем заштопать ее так, чтобы она не отличалась от остального куска. В пятом классе раз в неделю во время большой перемены бывали уроки пения; Липа в этих уроках не участвовала, считалось, что у нее совсем нет слуха и голоса, у меня определили альт (третий голос) и велели петь. Лучше всех у нас в классе пела Катя Щукарева, у нее был хороший, низкий голос. Раз или два в неделю бывали во время большой перемены уроки гимнастики, происходили они в гимнастическом зале, высоком, пустом и довольно мрачном помещении, в который мы попадали после довольно длинного перехода по разным коридорам и лестницам. Инструктором была Надежда Аполлоновна Макарова, она прекрасно знала языки, преподавала в младших классах геометрию, она окончила нашу гимназию, а высшее образование получила на Высших женских курсах или в Педагогическом институте.
Фото 32. Эмилия Павловна Шаффе
Она вела всю административную работу, была правой рукой начальницы – Эмилии Павловны Шаффе. Она пользовалась в гимназии авторитетом, ученицы к ней хорошо относились, но с нашим классом она как-то мало имела дела. Что сказать о самой Эмилии Павловне (фото 32)? О ней и ее школе написана целая книжка, которая у меня хранится. Это был человек, преданный делу воспитания детей, поборница серьезного женского образования, сумевшая из маленького пансиона создать образцовую гимназию, пользовавшуюся в городе всеобщим признанием и, что еще вернее, любовью учившихся в ней девочек. Ею был создан при гимназии детский сад, во главе которого стояла добродушная тетя Саша, и три подготовительных класса, в младший из которых поступали семилетние девочки. Она вникала во все мелочи гимназической жизни, все ее заботило, все интересовало. Как-то раз вошла она в наш пятый класс и остановилась в проходе, как раз около моей парты. Она попросила мою тетрадку русского языка и сказала, обращаясь к классу: «Я обратила внимание, что вы хотя и находитесь уже в старших классах, но пишете плохо, в смысле почерка. Вот, например, эта тетрадка», – показала она мою тетрадь. – «Все написано здесь правильно и аккуратно, но почерк никуда не годится; придется вам раз в неделю заниматься чистописанием для исправления почерка». И действительно, раз в неделю были организованы для нас уроки чистописания, не знаю, как другим, а мне они принесли несомненную пользу, и с тех пор, по-моему, никто не может пожаловаться на мой почерк. Эмилия Павловна в это время была уже старушкой – небольшого роста, в наколке с рюшем на седых волосах, в очках, всегда в темном, незаметном платье. Она не давала уроков ни в одном из классов, но часто заходила на уроки, в особенности в младших классах, присутствовала всегда на выпускных экзаменах и иногда принимала участие в приемных экзаменах вновь поступающих девочек. Помню, один раз она экзаменовала и нас. В ней не было излишней мягкости, никакой сентиментальности, но глаза ее смотрели ласково из-под седых бровей, и чувствовалось, что ей дороги все эти большие и маленькие девочки, их знания, их судьба. Эмилия Павловна не была замужем, у нее был приемный сын, Лев Шпергазе, он был женат, у него было двое детей, мальчик и девочка, которые ходили в детский сад.
В то время при каждом доме на Большом проспекте Васильевского острова был сад, обнесенный забором. Был такой сад и при гимназии, весной и осенью мы выбегали туда в большую перемену; сад был уютный, содержался в порядке, никто не трогал яблок, в изобилии висевших на ветках нескольких яблонь.
Итак, мы с Липой пришли первый раз в гимназию, начался новый этап нашей жизни. В двенадцать часов была большая перемена, взяв корзиночки с завтраком, мы вышли в соседнюю комнату, полутемную, без окон, там стояли длинные столы и скамейки, за которыми мы и завтракали. Из этой комнаты двери вели в зал; большая перемена длинная, целый час, во время нее мы и гуляли, и просматривали трудные уроки, а некоторые девочки просто учили их. Впоследствии почти каждую большую перемену кто-нибудь из более слабых девочек просил рассказать им тот или иной урок. Вскоре по большим переменам были устроены уроки танцев, в которых я принимала участие и восполнила, таким образом, этот недостаток в моем образовании.
26 сентября старого стиля был день основания гимназии, в этот день занятий не было, мы приходили в гимназию без передников, с кружевными воротниками на коричневых платьях и с распущенными волосами. Мы все собирались в зале, около окон там ставили большой стол для педагогического совета, и затем происходила раздача аттестатов и медалей. При этой церемонии присутствовали и желающие родители.
Занятия кончались без десяти минут три, мы с Липой отправлялись домой. Дома я переодевалась, зимой я надевала юбку с бумазейной блузкой, весной – с легкой блузкой, в половине четвертого я пила с матерью чай и рассказывала ей события дня. После чая я становилась к окну и смотрела, идет ли очередная учительница; хотя и с Miss Violet, и с Маргаритой я занималась с большим удовольствием, но все же я смотрела с тайной надеждой: «Авось не придет». Я занималась английским и немецким через день три раза в неделю, два раза в неделю после обеда с шести-семи часов занималась музыкой. В пять часов я кончала урок английского или немецкого, в половине шестого мы садились за обед. В семь часов пили послеобеденный чай, и затем я садилась за уроки, которые обыкновенно кончала к десяти часам, к вечернему чаю. В это время часто ко мне приходила Липа, некоторые уроки мы иногда готовили вместе, спрашивали друг друга, иногда вместе упражнялись в решении задач, а иногда и просто болтали, когда уроков было мало. Мы с ней становились все ближе друг другу, мы ведь остались только вдвоем, делились нашими заветными мыслями и мечтами.
Между тем в стране становилось все тревожнее, все чаще появлялись сообщения о забастовках, демонстрациях, студенческих беспорядках. Возвращаясь из гимназии, мы видели наряды полиции, основная масса которых заполняла тогда двор Академии наук. Наконец, все это завершилось Кровавым воскресеньем 9 января. Дома у нас в этот день стояла какая-то давящая, гнетущая тишина, никто не выходил из дома, но слухи ползли, зловещие, невероятные по своей беспримерной жестокости. Отец не мог сидеть на месте, молча с мрачным лицом он ходил взад и вперед по комнатам.
Фото 33. Живоин Ильич Иоцич
В этом году я совсем иначе встречала Марию Маркеловну, когда она приходила к нам, хотя она большую часть времени проводила с Марией Павловной, я все же улучала минутку с ней поболтать, иногда она приходила к нам по воскресеньям. Она по-прежнему жила вместе с Федором Васильевичем и Лидией Семеновной, по-прежнему занималась в Смоленской школе для рабочих. Заведующая этой школой, Елизавета Петровна Пожалова, очень ее любила, по-прежнему она видалась с В. А. Мокиевским, но счастливая развязка их привязанности все затягивалась, и вместо счастливого конца наступила катастрофа: в ночь на 20 февраля (старого стиля) В. А. Мокиевский покончил с собой, приняв цианистый калий. В своем последнем письме к Марии Маркеловне он не сказал, какая причина заставляла его лишить себя жизни, ему стало тяжело жить по разным обстоятельствам, а последняя причина только переполнила чашу. По пересказам товарищей эта причина заключалась в ссоре с Ж. И. Иоцичем (фото 33), из-за которой они должны были драться на дуэли. Вообще, Владимир Андреевич был человек замкнутый и мрачно смотрящий на жизнь. Любовь Марии Маркеловны доставляла ему радость, но он чувствовал, что она считает его лучшим человеком, чем он есть на самом деле. На Марию Маркеловну смерть его произвела ужасное впечатление. Она как будто предчувствовала это несчастье. В эту роковую ночь она видела во сне, будто он лежит в соседней комнате и хрипит так страшно, что она проснулась и не могла больше уснуть. Утром ей передали его письмо и сообщили о случившемся. Она очень тяжело переживала свое горе. К нам она пришла спустя несколько дней после его похорон; было воскресенье, сырой февральский день. Она пошла с Марией Павловной в наш сад, я тоже пошла туда, но не смела подойти к ней и только издали смотрела, как они ходили по дорожкам. В саду было много снега, снег был и на деревьях, мокрый, он таял и капал с веток с печальным шумом, с серого низкого неба падали мокрые снежинки.
После обеда Мария Маркеловна ушла в комнату Марии Павловны и прилегла на ее кровать, я пришла к ней. Мне так было ее бесконечно жаль, я стала говорить с ней на разные темы, тщательно избегая всего, что могло бы напомнить ей о несчастье. С этого времени я еще больше полюбила ее, у меня за нее постоянно болела душа. Она плакала у себя в комнате, я плакала о ней, когда узнала об ужасном событии и каждый раз после свидания с ней. Федор Васильевич и Лидия Семеновна окружили ее вниманием и заботой, оба они были такие деликатные люди, но все равно Мария Маркеловна очень тосковала. Придя со службы и пообедав, она уходила к себе и чувствовала себя такой одинокой. Ей было двадцать восемь лет, с тринадцати лет она была оторвана от семьи, жила среди чужих людей, она так тосковала по семье, по личному счастью. Она, конечно, чувствовала мою любовь к ней и тоже очень привязалась ко мне. Впоследствии она говорила мне, что сомневалась, была ли она счастлива с Владимиром Андреевичем, он был все-таки слишком мрачным человеком, и психология у него была какая-то больная.
Работа не давала ей удовлетворения и забвения, она состояла в однотипных, шаблонных анализах так называемых кетонных масел и научного интереса не представляла. Мария Маркеловна была единственной женщиной в лаборатории, она сумела так себя поставить, что все к ней относились с уважением. М. Г. Кучеров, «начальство», как она его называла, всегда был к ней внимателен. Работа давала ей возможность вполне обеспеченно существовать, ездить каждое лето в отпуск на юг в дорогие пансионы.
В это время Министерство финансов объявило конкурс на лучшую денатурацию спирта. Денатурирующее вещество должно было делать спирт отвратительным на вкус, прочно в нем удерживаться, так, чтобы нельзя было легко от него очистить спирт. Была создана комиссия, которая должна была рассматривать поданые под различными девизами предложения; в нее вошел и Алексей Евграфович. Было подано очень большое число предложений, так что комиссии пришлось проделать большую работу, но все предложенные способы в том или ином отношении не удовлетворяли экспертов. Когда был выбран наилучший образец денатурированного спирта, решили пригласить в качестве дегустатора ломового извозчика и дали ему попробовать, какова на вкус эта жидкость. Извозчик пришел в заседание комиссии, взял в руки налитый ему стаканчик денатурата, выпил, крякнул и сказал: «Вот это да! Здорово забирает! Нельзя ли еще стаканчик?» Так никому и не досталась назначенная премия.
В эти годы отец несколько раз назначался присяжным заседателем, возвращаясь из суда, он иногда рассказывал о разбиравшихся делах, но никаких громких процессов ему не пришлось судить.
Пришла весна, мы с Липой стали готовиться к экзамену по зоологии. Занимались мы в нашей бывшей классной; моя парта одиноко стояла в углу, остальные парты и доска были убраны, там стоял теперь диван. Занимались мы достаточно усердно, но весна и солнце манили к окнам, за которыми распускались липы в парке кадетского корпуса, на месте которого теперь расположены здания Государственного оптического института. Сбоку в парк выходили здания елисеевских заведений: магазина, фабрики и жилого доходного дома. Нас забавляло наблюдать за жильцами этого дома. Мы говорили, что у них развито «стремление к вывешиванию», как ни посмотришь, в открытых окнах этого дома видишь высунувшиеся фигуры, смотрящие во двор на заходящих туда старьевщиков-татар, кричащих: «Халат, халат», на шарманщиков, или лоточников с тележками, или просто на разыгрывавшиеся сцены между другими жильцами или ребятишками. Когда наступало время завтрака, Липа уходила к себе домой, после завтрака мы встречались с ней в саду, после гулянья шли опять заниматься, среди дня мать поила нас чаем с конфетами, во время чаепития мы читали, мне запомнилось, что на нас произвел большое впечатление замечательный рассказ Чехова «Дом с мезонином». Слова «Мисюсь, где ты?» всегда вызывают у меня воспоминания о двух девочках, сидящих за столом с лежащим на нем учебниками, мысли которых улетели далеко. После обеда опять занятия до вечернего чая.
Незадолго перед отъездом в Безо я получила письмо от Альмы, в котором она сообщала о смерти маленькой Хильды, погибшей от какого-то желудочного заболевания. Когда мы приехали в Безо, оказалось, что родители решили устроить Альму на работу во вновь открывшуюся булочную. Ей сшили для этой цели новую юбку и блузку, и она вскоре встала за прилавок, за которым и проводила с тех пор большую часть дня. Теперь мы остались вдвоем с Луизой и еще больше подружились, ей приходилось теперь больше работать по хозяйству, я по-прежнему помогала ей при сборе ягод и развлекала ее своими разговорами при большинстве других работ. В этом году лето было тревожное: во многих имениях пылали подожженные крестьянами помещичьи дома. В Финляндии, на противоположном берегу Финского залива, почти прямо против Безо, в крепости Свеаборг, произошло восстание гарнизона, шла артиллерийская стрельба, которую мы слышали у себя в Безо.
Был август месяц, был тихий, серый дождливый день, шел мелкий непрерывный дождь; мы ходили с отцом в этот день за грибами, мокрый лес, тихий шелест дождя по листьям, низко нависшее серое небо, глухие раскаты артиллерийских залпов создавали унылое, безнадежное настроение. Сознание, что где-то недалеко, за узкой полоской залива, идет героическая, неравная борьба, заставляло сжиматься сердце. Молча ходили мы с отцом по лесным дорогам, дома сидеть в такое время было еще тяжелее.
Осенью волнения в Петербурге вспыхнули с новой силой, демонстрации, забастовки. Бастовали заводы, студенты и даже гимназисты. По улицам разъезжали казаки с нагайками. Наша гимназия не бастовала, не такой был состав учениц, но волей-неволей пришлось несколько дней не учиться – так неспокойно было на улицах. Обнародованный 17 октября Манифест о конституции и Государственной думе не мог удовлетворить народ, волнения продолжались, по всему городу возникали митинги и организованно, и стихийно. В Университете собирались и говорили в аудиториях, в актовом зале и просто во дворе, в университетском коридоре. Выступали самые разнообразные ораторы, и слушатели тоже были самого различного характера: студенты, рабочие, гимназисты и просто прохожие, остановившиеся послушать, что говорит очередной «оратель». Много еще темноты было в народе, многие слушали и не понимали, о чем идет речь. Домработница Тищенко, возвращаясь по двору домой, остановилась послушать. Митинг вскоре закончился, она пришла домой и стала рассказывать, как ей понравился выступавший «оратель»: «Такой милый, такой симпатичный и вежливый такой… Кончил говорить и отрекомендовался, сказал: “Кончил Митин”. Очень, очень симпатичный человек».
После нескольких дней перерыва занятия в гимназиях возобновились. В этом году у нас появились новые учителя: по немецкой литературе – Herr Oscar Neumann и по французской литературе – Mr Paquier. Первый преподавал очень интересно, он и по внешности, и по своим внутренним качествам был типичным добродетельным, хорошо эрудированным немцем. Мы его любили, нас с Липой он считал очень хорошими ученицами и очень к нам благоволил. Mr Paquier был худой француз с громадными черными глазами. Преподавал он менее интересно, мне он не был симпатичен, так как он неоднократно заявлял на уроках: «Я монархист и клерикал». Он был фанатичным католиком, и критика его тех писателей и поэтов, которых мы проходили, была всегда тенденциозна. Появился у нас и новый учитель географии – Лапченко. Это был очень серьезный и требовательный учитель, я очень любила этот предмет и вела подробные записки всего, что рассказывал Лапченко, в результате у меня одной из всего класса была пятерка в четверти. Все просили списать мои записки, просили рассказать урок на большой перемене. Весной мы должны были сдавать экзамен по географии уже для аттестата. Проходили мы в этом году географию России, я занималась ею с удовольствием, а некоторые были недовольны Лапченко и ругали его.
Мы с Липой уже чувствовали себя в гимназии как дома и сели на одну скамейку, не в конце класса, а в третьем ряду. С этого года гимназию возглавляла Н. А. Макарова, Эмилия Павловна еще летом уехала лечиться за границу, но здоровье ее все ухудшалось, и зимой мы ее похоронили. Занятий в этом году было больше, задавали больше уроков, писали сочинения и домашние, и классные. Дмитрий Дмитриевич Франк устраивал одну письменную работу по алгебре за другой. Даже и по воскресеньям часто находилась работа: то надо было писать сочинение, в будний день не успеть было это сделать, то надо было приводить в порядок и переписывать записки, каждую четверть просматривали тетради и ставили отметку за их состояние.
Фото 34. Дача П. С. Паршакова в Канерве – между Репино и Комарове
Но все же зимой мы часто ездили с отцом в Куоккала на дачу к П. С. Паршакову, он уже выстроил на своем участке одну большую дачу и одну маленькую – для зимних наездов. Мы там останавливались, переодевались и катались с окрестных гор. Иногда удавалось захватить с собой и Липу. Мне Петр купил хорошие легкие валенки, Липа каталась в теплых калошах. Алексей Евграфович как-то предложил ей, что Петр может и ей купить валенки, но она не решилась попросить об этом родителей. Дача была довольно далеко от станции, и мы обыкновенно не шли к ней пешком, а нанимали маленькие финские сани, принадлежавшие сторожу на даче. Возвращались уже вечером, после захода солнца (34 фото).
В этом году мы с Липой ближе сошлись с некоторыми из девочек: с Юлей Додоновой, Хеллей Ленц, Теей Леви, Лизой Шевыревой и к поступившей к нам в этом году Ириной Старынкевич. У некоторых из них мы побывали в гостях. Кроме того, нас пригласила к себе однажды Вера Хвольсон. Мы с ней не были близки, она держалась особняком и к большей половине класса относилась враждебно – может быть, в младших классах ее дразнили или обижали, не знаю. У нас с ней никаких столкновений не бывало, и к нам она, по-моему, относилась лучше, чем к другим. Кроме того, мне кажется, что отец ее, Орест Даниилович, уважал наших отцов и хотел, чтобы дочь его подружилась с нами. Однажды Вера позвала нас к себе в гости, жили они в здании Физического института; кроме нас была еще одна или две девочки. Посидев в Вериной комнате, мы пошли в столовую пить чай вместе с ее родителями. Сестра Веры, Надежда, была замужем за старшим сыном ректора Университета, профессора физики Ивана Ивановича Боргмана, и не жила с родителями, отдельно жила и другая ее сестра. Орест Даниилович во время чая был очень любезен с гостями, расспрашивал нас и сам рассказывал. Он уже был в это время болен, у него была, как тогда говорили, сухотка спинного мозга, он ходил с палкой и сидел на мягкой подушке, вставать ему было трудно, но ходил он достаточно бодро. Жена его не принимала участия в разговоре, только потчевала гостей. Сказав что-нибудь, она взглядывала на мужа с опаской. Видно было, что Орест Данилович демонически властвует в семье, у Веры тоже был какой-то забитый вид: маленькие узкие глазки ее были всегда опущены, ходила она опустив голову и как-то сжавшись. Впоследствии она стала ненормальной, избегала людей, никуда не ходила, только выходила гулять и как маятник ходила взад и вперед по университетскому двору, ни с кем не здороваясь.
В гостях у Теи Леви было совсем по-другому: они жили в роскошной квартире, принимала нас Тея в гостиной. У Теи было три сестры: Ева, окончившая в прошлом году нашу гимназию; Алиса, с красивым, правильным лицом, учившаяся в седьмом классе; и маленькая Сибилла, беленькая, кудрявая девочка. Сестры к нам не выходили, мать Теи в это время была в Берлине, где она издавала сборник своих стихов на немецком языке. Отца Теи, богатого банкира, мы тоже не видали. Тея была простая и очень милая девочка, мы весело болтали и играли в какие-то игры. Но вдруг кто-то вспомнил, что на следующий день опять должна была быть письменная работа по алгебре. Тут некоторые из девочек начали ворчать и возмущаться, что Дмитрий Дмитриевич замучил нас этими работами, к кому-то из них пришла в голову мысль написать Дмитрию Дмитриевичу письмо. Всем эта идея очень понравилась, живо принесли бумагу, и письмо было написано. В нем говорилось, что в последнее время матери часто спрашивают своих дочек, отчего они так невеселые, так похудели. А те отвечают: «Алгебра, письменная работа». Письмо было написано, запечатано, и Тея должна была завтра перед уроком осторожно положить его на учительский стол. Кроме нас с Липой, в гостях были Юля с Хеллой, Лиза Шевырева, Катя Щукарева и еще кто-то. Всем идея письма очень понравилась, и все очень веселились. Вскоре за нами с Липой приехал Петр (по вечерам нас не пускали одних ходить по улицам), и мы уехали. Да, писать было весело, но на следующий день на уроке было очень неуютно. Дмитрий Дмитриевич вошел как всегда быстрой походкой, громко поздоровался с нами, сел за стол и увидал письмо. Взял его, распечатал и стал читать. В классе стояла гробовая тишина, у меня сердце ушло в пятки. Прочитав, он посмотрел на класс – мне казалось, что у меня на лице написано, что я являюсь участницей, – и сказал, что он не будет спрашивать, кто написал письмо, но что это неумно, так как письменные работы необходимы и делаются для нашей же пользы и вряд ли могут явиться причиной похудания. После этого он раздал темы новой письменной работы. Письмо не подействовало.
У Юли Додоновой прием был опять в другом роде: у нее были два старших брата и младшая сестра. Отец ее и старших братьев умер в сумасшедшем доме, мать ее вышла второй раз замуж за его товарища, который усыновил старших детей, младшая сестра была от второго мужа. Перед ужином мы проходили через кухню, там лежали две охотничьи собаки, братья Юли были охотниками. Кроме нас, были еще посторонние гости, были танцы и настоящий ужин, с рябчиками, вином и мороженым.
Кроме Ирины Старинкевич, к нам в класс поступили еще две новые ученицы: Женя Зехова и Люба Юдлевская. Женя приехала с Дальнего Востока, у нее был монгольский тип лица. Младшая сестра ее, Ляля, поступила в пятый класс. Она совершенно не похожа была на сестру: красивая, голубоглазая, с волнистыми белокурыми волосами, заплетенными в две косы. Сестры поселились в интернате. Отец их, по-видимому, был богатым купцом или промышленником. Женя была симпатичная и неглупая девочка, Ляле же, по-видимому, вскружила голову ее красота, и она думала больше о нарядах и кавалерах, чем об учении. Сестры проучились у нас один только год и куда-то уехали.
Люба Юдлевская была крещеная в лютеранство еврейка. Она была на несколько лет старше нас и прожила уже сложную и разнообразную жизнь. Родные ее жили в Аргентине, сама она жила во Франции, подробно об обстоятельствах своей жизни она не рассказывала. Ввиду отсутствия правильного учения в последние годы ей было трудно учиться, но она упорно старалась, добивалась хороших отметок. Она часто просила меня помочь ей, объяснить непонятное, и, видимо, симпатизировала мне, в классе она еще чувствовала себя чужой.
Отпуская меня несколько раз в гости к девочкам, мать захотела и сама посмотреть на моих подруг и предложила позвать их ко мне как-нибудь вечером. Кроме Липы я позвала Юлю, Хеллю, Тею, Веру Хвольсон, Марусю Мущенко и Любу Юдлевскую. Собрались у меня в комнате, играли в разные игры, потом пошли в столовую пить чай. К моему огорчению, кроме родителей и Марии Павловны, там сидела еще А. И. Погоржельская, она была у нас накануне вечером и узнала о предстоящем сборище и заявила, что придет посмотреть моих подруг, хотя никто ее не приглашал. Она испортила мне весь ужин, бесцеремонно вмешиваясь в наши разговоры и придавая всему собранию нежелательный тон.
В эту зиму в Петербург на гастроли приезжали известные артисты братья Рафаил и Роберт Адельгейм. Маргарита моя была от них без ума. Она вообще, в особенности в юности, увлекалась артистами. Она рассказывала про себя следующую забавную историю. Была она в театре, играл какой-то известный артист. Он совершенно пленил ее своей игрой, она дожидалась после спектакля у подъезда его выхода, дождалась и была вознаграждена за свое терпение тем, что артист пожал ей руку! В полном счастье Маргарита шла домой, держа руку прямо перед собой и давая себе слово не мыть ее никогда в жизни. Размечтавшись, она не смотрела, куда идет, упала и попала вытянутой рукой прямо в лужу! Хочешь, не хочешь, а пришлось ей вымыть эту руку и смыть следы прикосновения знаменитого артиста. Братья Адельгейм играли в маленьком частном театре Неметти, находившемся где-то на Петроградской стороне. Среди других пьес они играли в «Разбойниках» Шиллера, Рафаэль играл Франца Мора, а Роберт, который был очень красив, играл Карла Мора. Мы изучали в это время по немецкой литературе Шиллера, как раз его «Разбойников», и фройлян Меттус решила повести наш класс в театр, посмотреть этот спектакль. Игра Адельгеймов мне очень понравилась, но, к сожалению, остальные артисты были далеко не на высоте, и вся обстановка театра была убога.
Мне не повезло в новом 1906 году: вскоре после Масленицы я заболела сильной стрептококковой ангиной, проболела не больше недели, но после этой ангины у меня опять стало часто болеть горло. В самом конце марта я заболела корью. У нас в классе было уже два случая заболевания корью, незадолго до меня заболела Вера Хвольсон. В четверг на Страстной неделе я пошла на дванадцать Евангелий, в пятницу вечером мы вместе с Липой пошли «Христа хоронить». Уже в церкви я почувствовала себя нехорошо, когда я пришла домой, у меня уже было тридцать восемь и пять. Меня уложили в постель, на следующий день приехавший доктор заявил, что у меня корь, я на всю жизнь запомнила эту свою болезнь, так как это была последняя болезнь, которую я перенесла под неусыпным надзором и уходом матери. С тех пор больше никогда за мной так не ухаживали, никогда больше я так не нежилась, выздоравливая, как во время кори.
Карантин тогда продолжался целый месяц, опасаясь, никто к нам не ходил, и я провела все это время почти исключительно в обществе матери. Пролежала я в постели десять дней. Первые дни у меня была высокая температура, меня мучил кашель, больно было смотреть на яркий свет. Я хорошо запомнила один вечер: я лежу в постели, в моей большой комнате горит только одна лампа на моем письменном столе, абажур на ней закрыт чем-то темным, чтобы свет не падал в мою сторону. На стуле у моей кровати стакан с прохладным питьем, приготовленный руками матери. Сама она сидит у стола и читает мне вслух «Крошку Доррит» Диккенса. Мне жарко, душно, но я все-таки внимательно слушаю, ясно представляю себе мрачную комнату и суровую женщину, сидящую в кресле. Каждый раз, перечитывая «Крошку Доррит», я вижу свою комнату, слышу голос матери, который так отрадно звучит в моих ушах, я еще с детства очень любила, чтобы мне читали вслух во время болезни, и мать всегда охотно мне читала. Пока я лежала, она сама приносила мне умываться, кормила меня завтраком и обедом.
Настала Пасха, как всегда, напекли куличей, сделали пасху, запекли окорок. Обыкновенно кроме домашних куличей заказывали еще кулич в кондитерской Иванова на углу Глинки и Мариинский площади, он несколько отличался по вкусу от домашних куличей.
Он мне особенно понравился в этот раз, и мать никому его не давала, кроме меня. За время болезни мы прочли с ней всю «Крошку Доррит», вели с ней нескончаемые разговоры. В квартире тишина: отец в лаборатории, Мария Павловна на службе, только заливается канарейка у меня на окне. Карантин заканчивался 23 апреля, а 21 апреля мне исполнялось шестнадцать лет – не пришлось мне отпраздновать совершеннолетие. Я уже говорила, что мне часто ожидание какого-нибудь удовольствия доставляло больше радости, чем само событие. Так и этот день рождения. В шестнадцать лет принято было дарить драгоценности, и вот я мечтала, думала, что-то мне подарят. Наконец наступил этот долгожданный день. Отец подарил мне гранатовое ожерелье в золотой оправе, я потом подарила его Марине Алексеевне. Мать долго думала и решила подарить мне икону моей святой – великомученицы Татьяны. Готовой такой иконы не нашлось, и она заказала ее написать и сделать серебряную оксидированную ризу. К ее большому огорчению, икона не была готова в срок, пришлось ей подарить мне квитанцию заказа, которую она положила в красивую коробку, специально для этого купленную, она у меня цела до сих пор, так же как и икона. Мария Павловна подарила мне колечко с бирюзой, которое я отдала Маше, мой крестник В. Е. Тищенко подарил мне кольцо с сапфиром. Очень растрогал меня подарок Марии Маркеловны. Незадолго перед тем она простудилась и никак не могла поправиться, кашляла и температурила. Я еще лежала больная, когда узнала, что она больна, и так расстроилась, что у меня поднялась температура. Она прислала мне букет из белых роз с письмом, которое растрогало меня до слез. Вот оно лежит передо мной, небольшая секретка, тщательно хранимая мною в ящичке вместе с другими письмами Марии Маркеловны. «Поздравляю мою дорогую Таню. Нет слов, которыми я могла бы передать все мои самые искренние пожелания для тебя. Я не только была бы рада, но прямо-таки счастлива, если бы твоя жизнь сложилась так, чтобы в ней ярко вырисовывались – успех в делах, душевное удовлетворение и счастье. Я очень желаю, чтобы судьба щедро тебя наградила всеми радостями жизни. Ты стоишь этого. Конечно, очень огорчена, что не могу быть лично на Вашем семейном празднике. Передай, пожалуйста, Наталье Павловне, Алексею Евграфовичу и Марии Павловне мое поздравление и сердечный привет. И пока до свидания. Еще раз тебя целую. 21 апреля 1906 года. Твоя Мария Маркеловна».
Я уже поправилась и ходила в гимназию, когда Мария Маркеловна поправилась настолько, что смогла прийти к нам. Я очень огорчилась, увидев ее, так она похудела, побледнела и ослабла после болезни. Лечила ее Лидия Семеновна, и она, и Федор Васильевич находили, что ей необходимо поехать на юг, чтобы ликвидировать болезнь. Во время этой продолжительной болезни вынужденное длительное одиночество, естественно, еще больше усилило тоскливое, грустное настроение Марии Маркеловны. Чтобы ее рассеять и развлечь, «старички» ее посоветовали Марии Макеловне поехать за границу. Она должна была приехать в Женеву к брату Лидии Семеновны, который устроил бы ее в поезд, идущий на юг Франции, в Монпилье. В этом городе жила в то время приятельница Марии Маркеловны, Мария Александровна Крыловская, оттуда Мария Маркеловна должна была ехать в Италию, в Сан-Ремо, городок на итальянской Ривьере. Недели через три Мария Маркеловна уехала. До Женевы она доехала благополучно, родственники Лидии Семеновны радушно ее встретили и посадили на поезд. Мария Маркеловна не знала французского языка и боялась пропустить Монпилье, но дорога сильно ее утомила, и она уснула. Когда она проснулась, Монпилье уже осталось далеко позади. Мария Александровна выходила ее встречать, но не встретила, решила, что она не поехала в этот день. Проснувшись, Мария Маркеловна по позднему времени догадалась, что Монпилье уже проехали. Дмитрий Семенович написал ей название всех станций, через которые ей надо будет проезжать, а теперь на вокзалах были совсем другие названия. Что делать? Кое-как она объяснила кондуктору и пассажирам, что случилось. На ближайшей остановке она вышла, купила билет до Монпилье и приехала к Марии Александровне, а потом отправилась в Сан-Ремо. Путешествие принесло ей несомненную пользу, она вернулась домой поправившаяся и отдохнувшая.
Весь апрель я просидела взаперти. Когда я заболела, еще таял снег, по улицам текли ручьи, а когда уже 28 апреля я вышла в наш ботанический сад, я была поражена, что весна уже кончается, все деревья были покрыты листвой, цвела черемуха, крокусы и нарциссы. После болезни я как-то обостренно чувствовала красоту природы, радовалась солнцу и теплу. С большим удовольствием я пошла в гимназию, последние дни, которые я сидела дома, я догоняла пропущенное. Липа, которая раньше болела корью, приходила и приносила мне заданные уроки. Этой весной по окончании занятий мы сдавали экзамен по географии. Опять мы с Липой готовились к экзамену вместе, и отлично его сдали. На экзамене Лапченко не был так строг и поставил достаточно пятерок. Еще перед моей болезнью я получила из Безо новое, очень грустное извещение. Родители решили, что Альме надо получить специальность, и отправили ее в Везенберг, где она поступила в ученье к портнихе. Ей было семнадцать лет, наследственность у нее была плохая, условия жизни и питания тоже были, очевидно, плохи. Альма заболела скоротечной чахоткой и умерла в самом начале весны.
Здоровье матери медленно, но постепенно ухудшалось, сил становилось все меньше. Теперь уже мы с ней делали лишь очень небольшие прогулки с частыми остановками и сиденьем на складном стуле. Она продолжала варить варенье и чистить ягоды, но все чаще процесс варки доверялся мне или Марии Павловне под ее надзором. Но она по-прежнему была доброжелательна к людям и никогда не жаловалась и не надоедала с анализом своего самочувствия. Как и раньше, мы любили с ней почитать вслух, иногда готовили вместе коржики или нарезали и пересыпали сахаром смоквы. Мы с отцом по-прежнему играли в теннис и в кегли. Этим летом были устроены состязания по игре в кегли для различных групп желающих, и я взяла второй приз в группе девушек. Отец уделял много времени школьному обществу, в зале нового дома часто устраивались танцы, концерты и любительские спектакли. На террасе у Лангсеппа больше не устраивалось немецких спектаклей, вообще антагонизм между немецкими и русскими дачниками значительно уменьшился, русская колония стала теперь многочисленнее немецкой. Отец по-прежнему ухаживал за своими цветочными клумбами, ходил со мной на рыбную ловлю и за грибами. Мы теперь делали с ними более далекие прогулки, искали грибы в таких лесах, в которые я раньше не ходила. Хотя я и выросла, отец любил шутить со мной, как и прежде. Он подтрунивал над моей худобой: когда я начинала хвастать своими мускулами, напруживая свой бицепс, он стискивал его и говорил: «Ох, какое комариное сало!» Он рассказывал мне, что в Павлове паука с длинными ногами, карамору, называли каноганогой, и вот он часто меня называл этим именем. Тогда я в ответ, по принципу павловских мальчишек, сейчас же говорила: «Каноганоги не эти, а отца твоего дети!» Он смеялся и говорил: «Сметь так разговаривать!» Зимой он иногда призывал меня в кабинет и давал читать немецкие и французские химические статьи. Я очень не любила таких экспериментов: химии у нас еще не проходили, я читала, ничего, по существу, не понимая. Особенно удручали меня трехэтажные немецкие фразы, а отец считал, что раз я хорошо знаю язык, пишу сочинения и свободно говорю, я должна с ходу переводить любую статью. Я страдала, пыхтела, отец сердился, говорил, что он ничего не понимает из такого перевода; в конце концов суть дела становилась ему понятной. На даче Алексей Евграфович отдыхал от химии, почти каждый год он укладывал среди других вещей и книг пачку писчей бумаги и тетради с работами сотрудников, но летом никогда не писал.
Большое впечатление произвел на меня этим летом один их первых спектаклей, сыгранных в зале нового школьного дома. Названия пьесы я не помню, помню только артистку, игравшую главную роль. Это была одна из дачниц, Е. А. Полевицкая. В течение ряда лет она проводила лето в Безо вместе со своими братьями – студентом Электротехнического института Борисом Александровичем Полевицким и студентом Института гражданских инженеров Константином Александровичем. Оба брата были очень интересные по внешности, особенно красив был младший, Константин. Я часто их видела, когда они проходили мимо нас на почту. Вместе с ними ходили на почту и участвовали в прогулках и различных летних развлечениях две сестры – Женя и Катя Овецкие, из которых последняя была очень миловидна, впоследствии на ней женился Борис Александрович. К их компании принадлежала и молодежь семьи Штробиндер, преподавателя Гатчинского сиротского института, о котором я уже писала.
Е. А. Полевицкая была не так красива, как ее братья, но она обладала несомненным драматическим талантом, и игра ее резко отличалась от игры других артистов-любителей. Впоследствии она стала профессиональной артисткой. Моя всезнающая Маргарита, знакомая чуть не со всеми дачниками Безо, близко знавшая Овецких, рассказала мне, что Е. А. Полевицкая недавно разошлась со своим женихом, который ее бросил. Я всей душой сочувствовала талантливой артистке, и, вероятно, поэтому ее игра в спектакле, где она играла покинутую девушку, произвела на меня такое глубокое впечатление. Даже и сейчас у меня перед глазами встает школьный зал, я сижу в одном из передних рядов, на сцене Е. А. Полевицкая произносит свой монолог, а на глазах у нее настоящие, искренние слезы, и мне ее так жаль, что я сама чуть не плачу и мысленно твержу: «Бедная, бедная!»
Хотя я и занималась в течение ряда лет музыкой с Екатериной Александровной Егоровой, но по недостатку музыкальных способностей, а может быть, и потому, что Екатерина Александровна не сумела раскрыть передо мной красоту и смысл тех произведений, которые я разучивала, но только я не понимала музыки, и, хотя ходила в молодости на концерты разных знаменитых исполнителей, их музыка меня не трогала. Может быть, причиной тому была официальная обстановка зала, множество народа кругом, в обстановке же темного зала Мариинского театра пение и музыка меня часто захватывали и уносили далеко от действительности, каждый антракт я считала, сколько осталось действия и радовалась, что еще не конец. Но вот мне запомнился один концерт, который я слышала летом 1906 года, совсем маленький концерт, организованный даже не в школьном зале, а на какой-то даче. Играли, конечно, любители, и среди них скрипач. Я вообще не особенно люблю скрипку, а тут какая-то небольшая вещь, исполненная никому не известным скрипачом, произвела на меня такое впечатление, что я забыла все окружающее и только внимала дивным звукам. Значительно позднее, в 30-е годы, я была в филармонии на концерте вальсов Штрауса. У меня было очень тяжело на душе из-за беспокойства по поводу брата, веселая, танцевальная музыка вальсов тогда сильно на меня подействовала, но не так, как можно было бы ожидать, судя по характеру музыки, а наоборот. Все показалось мне еще мрачнее и безнадежнее, я сидела на краешке дивана и ничего не видела перед собой. Есть еще одна музыка, которая оказывает на меня всегда сильное впечатление – это игра Игоря, конечно, когда он играет что-нибудь настоящее, а не просто «тренькает».
На танцы в школьный дом я не ходила, своей компании у меня не было, а для того, чтобы танцевать с кем-нибудь малознакомым, я была слишком застенчива. Кончилось лето, снова Петербург, снова гимназия, а впереди весной – выпускные экзамены числом более десяти. В этом году у нас были новые уроки – космография и химия. Химию нам преподавал А. А. Добиаш, а космографию Дмитрий Дмитриевич. Химия проходилась очень примитивно, сам А. А. ее знал плохо. Среди девочек я была признанным авторитетом по этому предмету и знала весь небольшой материал назубок. Мы проходили химию всего лишь в первом полугодии и не сдавали по ней экзамена.
Фото 35. Ирина Дмитриевна Старынкевич
В этом году мы очень сблизились с Ириной Старынкевич (фото 35). Она была умная и развитая девочка, хорошо знавшая математику. Ее сестра Ада, учившаяся в шестом классе, обладала выдающимися математическими способностями. Годом моложе ее была сестра Дебора, очень милая и симпатичная, она училась у нас в пятом классе; самая маленькая, Иоанна, или Анна, еще не начинала учиться. У них было еще два брата: Константин – студент-технолог и Сократ, мальчик лет десяти. Отец Ирины, Дмитрий Сократович, был очень умный, оригинальный и образованный человек. Он окончил математическое отделение физико-математического факультета Университета, а затем Технологический институт. В качестве инженера-механика он занимал какие-то высокие должности и получал двенадцать тысяч рублей в год (Алексей Евграфович в качестве профессора получал в год три тысячи рублей). Мать Ирины, Елена Константиновна, училась в Медицинском институте, у нее были больные легкие, предрасположение к туберкулезу потом передалось и детям. Константин и Дебора погибли от туберкулеза еще молодыми. Заботясь о здоровье детей, Дмитрий Сократович заставлял их спать круглый год с открытыми форточками. Чтобы холодный воздух не дул им прямо в постель, вокруг кроватей ставились высокие сплошные деревянные ширмы. У Ирины была отдельная комната, Ада и Дебора жили вдвоем. Всем девочкам отец купил вместо столов высокие конторки, а к ним – высокие вертящиеся табуреты; по-моему, это было неудобно и совсем некрасиво, но никто не протестовал. Сам он менял белье каждый день, и вообще у них в семье очень следили за чистотой. Одевались все просто, никакого шику не было, но жили они богато: у них была старушка-экономка, кухарка, горничная, прачка, большая хорошая квартира, много хороших книг и картин. Ирина была любимицей отца. Дмитрий Сократович охотно разговаривал с подругами дочери, был интересным и веселым собеседником. Сейчас волосы, усы и борода у него были совершенно седые, а в молодости он был рыжим. Его предки были выходцами из Сербии, отец его Сократ Иванович, был губернатором Варшавы, у них было большое имение в Казанской губернии.
Этот год я особенно была занята, но тем не менее всегда находила время для Андрюши, который частенько заходил после обеда поговорить, поиграть в шахматы. Еще больше подружилась я с Марией Маркеловной, она почти каждую неделю приходила к нам, если не в субботу с ночевкой на все воскресенье, то уж обязательно среди недели к обеду. Вот тут-то мы с ней и урывали время поболтать между обедом и чаем. Мы уходили обыкновенно в ванную комнату, там у окна стояла большая корзина, в которой возили на дачу белье и платье, садились на нее и в задушевном разговоре не замечали, как летит время. Нам казалось, что мы один миг провели вместе, а оказывается, нас уже ищут идти пить чай, и мать недовольна, что я не сажусь за уроки, вечером буду поздно сидеть. Так как эти свидания были очень коротки, иногда буквально один миг, то мы, уходя в ванную, говорили друг другу: «Пойдем, помигаем». Впоследствии, вспоминая с Марией Маркеловной это время, я говорила ей: «Помнишь, как мы с тобой мигали?»
Ко мне по-прежнему приходили и Маргарита, и Miss Violet, мы с ними разговаривали как близкие друзья. Miss Violet рассказывала мне о том, как она занимается на курсах Раева: этим летом она ездила вместе с группой студентов и с профессором этих курсов Фаддеем Францевичем Зелинским в качестве руководителя в Грецию, в Афины и другие города, изучать памятники античной старины. Она была в восторге от поездки и с увлечением рассказывала о путешествии и о Зелинском, преподававшем на курсах историю религии. Он был уже немолодой, с большой лысиной, прикрытой редкими волосами. Мне он по внешнему виду не нравился, но Miss Violet благоговела перед ним и, мне кажется, была даже в него влюблена. К весне она что-то загрустила, стала жаловаться на слабость, у нее нашли непорядки в легких и послали ее за границу, в Сан-Ремо, откуда она мне писала ласковые письма.
В этом году Маргарита приходила ко мне так, что мы занимались с ней до самого обеда, после чего она оставалась у нас обедать, а потом шла на урок к Вуколовым, жившим на Петроградской стороне, я часто ходила ее провожать после обеда; мы шли с ней по Биржевой линии и затем по Тучковой набережной до Тучкова моста, оттуда я бежала домой одна. Мы обе любили эти короткие прогулки в сумерках, во время их как-то откровеннее говорилось. Маргарита была откровеннее Miss Violet, она рассказала мне о своем романе с неким Arnold Leiberg, которого я часто видела в Безо. Он мне, по правде сказать, не особенно нравился, такой типичный немецкий буржуа. В прошлом году он приходил встречать Маргариту, когда она уходила от нас, а в этом году он уехал работать в Самару, так что у Маргариты были теперь только письма.
В прежние годы гости приходили к нам в любой день, почти каждый день кто-нибудь заходил. Ввиду того что здоровье матери постепенно ухудшалось и такие частые гости утомляли ее, был выбран приемный день – суббота, в который и приходили гости, главным образом ученики отца: Ж. И. Иоцич, Николай Николаевич Соковнин, 3. А. Погоржельский, Лев Михайлович Кучеров, и другие. Я уже писала, что мать плохо слышала, слух ее постепенно ухудшался, и уже несколько лет она могла слышать только при помощи слуховой трубки. Для обозначения некоторых предметов и людей у нас в ходу были определенные символы, образы. Так же как и теперь, услышав звонок, мы смотрели в окно на лестницу, чтобы узнать, кто пришел. Если приходил Соковнин, мы приставляли палец к носу и давали таким образом матери понять, что пришел Николай Николаевич, у которого действительно был довольно длинный нос. Николай Николаевич бывал у нас довольно часто. Отец симпатизировал ему, считал его хорошим, принципиальным человеком. Николай Николаевич был единственным сыном, отец его жил в своем имении, расположенном где-то в приволжском крае. Он был очень культурный человек, друг поэта Мея. Николай Николаевич ездил на лето к отцу, а когда отец умер, ему пришлось самому заняться имением, хозяйство требовало много средств, а доходов было мало. Он наладил там производство масла, сливочного и столового; масло это присылали в Петербург для продажи, мы также его покупали, чтобы поддержать Николая Николаевича. Николай Николаевич не был женат, как я впоследствии узнала, у него был роман с женой одного чиновника, служившего в правлении Университета, некоего Погорелова. Погорелов жил с женой и двумя детьми в главном здании Университета. Я много раз встречала его жену, всегда нарядно одетую даму высокого роста с глазами навыкате. Как оказалось, она постоянно требовала с Николая Николаевича денег, и однажды, не будучи в состоянии исполнить ее требования, Николай Николаевич, бывший казначеем Русского химического общества, растратил деньги общества. Видя, что ему не возместить этих денег перед ревизией, Николай Николаевич пошел в парк Каменного острова и застрелился.
В январе 1907 года я начала писать дневник, то есть это не был собственно дневник, я не писала систематически изо дня в день о событиях моей жизни, а писала туда время от времени мысли, которыми я не могла поделиться с другими. А таких мыслей у меня в то время появилось много, хранить их в себе часто было мучительно и трудно, когда же я облекала их в какую-то определенную форму и поверяла их своей тетради, становилось как будто легче.
Тетрадь эту я никому не показывала. Начала я эту тетрадь с тем, чтобы излить свое возмущение по поводу высылки из Ялты Г. Ф. Ярцева и его жены. Кроме них, был высланы из Ялты бывавшие у Ярцевых прогрессивные общественные деятели – доктора Алексин и Розанов. Другой доктор, Альтшуллер, получил предупреждение не заниматься политической деятельностью, иначе его ждет такая же участь. Ярцевы всем семейством переехали в Москву, где у них было много родных. Григорий Федорович приехал в Петербург узнать о причинах своей высылки, я его встретила на набережной, и он мне все это рассказал. Он потом был у нас и много рассказывал. У меня как бы завеса спала с глаз, я как бы воочию увидала тот мир произвола и насилия, о котором я и раньше слышала и знала, но теперь увидала хороших, честных людей, которых я уважала, ставших жертвой этого произвола. Я стала задумываться о том, что я буду делать, когда совсем кончу учиться, хотела делать какое-нибудь действительно полезное дело, мечтала достать какие-нибудь «политические» книги, познакомиться с политическими деятелями. Обо всем этом можно было только писать в моей тетрадке, говорить об этом было не с кем, ни Липа, ни гимназические подруги для таких разговоров не подходили.
Единственной, с кем я могла говорить на волновавшие меня темы, была Маргарита: хотя она сама и не принимала участия в революционной работе, у нее были знакомые среди социал-демократов. Летом 1906 года была засуха и неурожай в Поволжье. Во все концы потянулись оттуда люди в поисках работы и хлеба. Много голодающих добрело и до Петербурга. Общество старалось идти им на помощь, устраивать благотворительные концерты, спектакли, базары, открывались бесплатные или почти бесплатные столовые. П. С. Паршаков, здоровье которого в это время было в хорошем состоянии, со свойственной ему энергией взялся за устройство такой столовой, нанял помещение, нашел кухарку, судомойку. К организации столовой и хозяйственному руководству он привлек целый ряд знакомых дам. Обед из двух блюд – мясные щи и каша с маслом – стоил четыре копейки, учитывалась только стоимость продуктов. Мы с матерью писали дома какие-то талончики, целые тетрадочки которых нам присылал П. С. Паршаков. Собственно говоря, они присылались матери, но, так как она уставала много писать, я ей помогала, и гордилась тем, как аккуратно я их заполняла.
В конце зимы опять пришло печальное письмо из Безо, сообщавшее, что умерла Луиза. Несмотря на то что жизнь в Везенберге и ученье у портнихи оказались не под силу Альме и она заработала там скоротечную чахотку, родители послали туда же и Луизу, которая вообще была слабее здоровьем, чем Альма. И ее постигла та же участь: в конце зимы она скончалась от той же болезни. Хорошая она была девочка, простая, бесхитростная, мы с ней по-настоящему любили друг друга, мне с ней было интереснее и приятнее проводить время, чем со всякими Пиккель, Дрессен и другими девочками из интеллигентных семей. О чем мы только с ней, бывало, не говорили, и никогда мы с ней не ссорились. Без Луизы Безо меня совсем не привлекало, оно мне уже стало надоедать: каждый год одно и то же. Я очень обрадовалась, когда отец сказал, что после окончания экзаменов мы с ним поедем по Волге, я рисовала себе картинки волжской природы: вода, зелень, голубое небо, звезды, луна, соловей, а на пароходе хорошие, интересные люди! Но до поездки нужно было еще сдать выпускные экзамены, а их было четырнадцать штук!
До пасхальных каникул прошли все письменные экзамены: три сочинения (русское, французское и немецкое) и письменные экзамены по алгебре и геометрии. Сразу после каникул был экзамен по истории русской и новой, на подготовку к нему давалось, таким образом, две недели. Накануне экзамена я говорила Липе, что очень хотела бы получить по новой истории пятнадцатый билет, в котором был вопрос по истории Англии. Настал экзамен, подхожу к столу, за которым сидит комиссия, беру билет по русской истории, смотрю – пятнадцатый! Ну, думаю, ничего, и по новой истории тот же билет вытяну – и, действительно, вытаскиваю тоже пятнадцатый билет! Готовились мы, конечно, как всегда, вместе с Липой, в нашей бывшей классной комнате. Вскоре после истории был экзамен по Закону Божию. Нам с Липой нетрудно было по нему подготовиться, а вот Ирина Старынкевич боялась его больше всего. У них отец, да и вся их семья никогда не ходили в церковь и не верили в Бога, поэтому она плохо знала этот предмет и очень боялась экзамена, тем более что программа была большая. Однажды она пришла к нам во время занятий и просила объяснить ей какие-то тексты. Мы с Липой получили на этом экзамене пять с плюсом. Да, я совсем забыла, что перед началом экзаменов мы должны были сдать зачетную работу по рукоделию: снять с себя мерку и на основании определенных правил составить чертеж выкройки лифчика в талию, сделать выкройку, выкроить по ней лифчик и сшить его. Выкройку-то я составила, а вот сшить лифчик у меня не было ни времени, ни охоты. Выручила меня Мария Маркеловна, она пришла к нам в субботу и все воскресенье провозилась с этим лифчиком; потом его выстирали, выгладили, и я его торжественно отнесла в гимназию.
Мы с Липой знали все предметы назубок и особенно не волновались. Кроме истории и Закона Божия, мы сдавали три экзамена по литературе, русский, французский и немецкий, устные экзамены по алгебре и геометрии и физику. Устные экзамены продолжались целый месяц. Мы с Липой занимались с утра до вечера с перерывами на завтрак, обед и на часовые гулянья в саду. После вечернего чая мы редко занимались, перед русской литературой мы засиделись до половины двенадцатого, но под конец Липа принуждена была пальцами поддерживать свои веки, чтобы глаза не закрывались. Не могу сказать, что я чувствовала особую усталость. Меня сердило, когда А. И. Погоржельская напевала матери, зачем она позволяет мне так много заниматься, что я подорву свое здоровье, что она навещала в каком-то санатории свою знакомую и видела там много больных молодых девушек, которые заболели после окончания гимназии, после выпускных экзаменов. Но, слава богу, мать не слушала ее, она всегда считала, что дело должно быть сделано, и сделано хорошо, она следила за тем, чтобы я хорошо питалась в это время, обязательно ходила гулять и вовремя ложилась спать. С девяти утра до десяти вечера времени довольно, можно все успеть выучить.
Конечно, мы учились не непрерывно, время от времени мы бросали заниматься и болтали обо всем на свете, в частности об одной истории, случившейся с Липой во время наших прогулок в Университетском саду. В этот сад, как известно, выходят окна студенческого общежития. Иногда мы с Липой выходили погулять и после обеда, и до чая. Однажды сидим мы с ней вечером на скамейке, видим, идет по дорожке студент, не в форме, а в коричневой курточке, и садится на ту же скамейку. Мы вскоре встали и пошли по дорожке, смотрим, студент тоже встал и идет за нами. Поравнявшись с нами, он сказал, что давно заметил нас из окна своей комнаты, и завязал с Липой разговор. Мы вскоре ушли, надо было заниматься. После этого студент этот каждый вечер встречал нас в саду и разговаривал с Липой. Чтобы не мешать им, я уходила на другую дорожку. Студент этот кончал восточный факультет, как его звали, я забыла, у меня в тетради записаны только инициалы: «В.А.Ш.»; разговаривая о нем, мы с Липой называли его «курточкой». Впоследствии он нашел общих знакомых, которые познакомили его с Липиными родителями, и он стал бывать у них. Он был симпатичный, скромный человек, родных у него не было. Это был глубоко одинокий человек, искренно привязавшийся к Липе. Она его жалела, но была к нему равнодушна. Он носил на мизинце золотой перстень китайской работы. Когда вскоре по окончании Университета он уехал из Петербурга, он подарил этот перстень Липе на память.
Фото 36. Ученицы гимназии с учителями перед выпуском. 1908 г.
Наконец все экзамены закончены. Последний экзамен пришелся на субботу. Вечером у нас собрались гости: пришли Мария Маркеловна, А. И. Погоржельская, Елизавета Евграфовна, ученики отца. Мать сидела на своем месте во главе стола около окон, я сидела на противоположном конце; во время ужина пришла Липа и сказала мне, что только что закончился педсовет и распределили медали. Золотые медали получили: Гуммель, Додонова, Коновалова, Леви, Фаворская, Шевырева, Шлезингер и Щукарева. Серебрянные: Грот, Ленц и Старынкевич. Не садясь за стол, Липа все это мне рассказала, все стали меня поздравлять (фото 36).