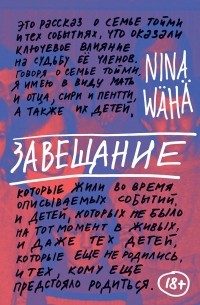Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Мальчик, который пожимал плечами, или пятый сын
Анни пытается принять решение, которое станет окончательным и бесповоротным. Мы познакомимся с пятым сыном, Тату, или Ринне, и ужаснемся, узнав на его примере, какие порой коленца выкидывает жизнь. Неожиданный визит. Скоро, очень скоро что-нибудь да случится.
Странная вещь время. Наступило и миновало Рождество, оно выдалось даже… ну, пусть и не слишком безоблачным, но, по крайней мере, прошло без больших встрясок и сюрпризов.
Рождественские праздники показались одним долгим тихим выдохом.
Наступил Новый Год. Мороз еще крепче взялся за деревья, зверье и людей. Температура не поднималась выше пяти градусов с того самого дня, когда Арто угодил в чан с кипятком.
Да, Арто. Теперь он чувствовал себя лучше. Ведь ему было всего шесть лет, а на малышах все быстро заживает, как сказал доктор Виисенмаа, когда навещал их, чтобы выписать лекарства, поменять бинты и осмотреть рубцы и шрамы.
– Ну что, воробышек, вот увидишь, скоро их совсем почти не будет видно.
Лаури, которого вытащили из Стокгольма в самое Рождество, взял на себя уход за младшим братом. Каждый день он брал Арто с собой на короткую прогулку на санках, потом что Арто полезно было бывать на улице в светлое время суток. По словам доктора (не Лаури) это ускоряло заживление ран, но главное, что Лаури нашел чем себя занять, и это помогало ему скрашивать дни и заставляло их идти быстрее.
Анни все это время безвылазно находилась в Аапаярви, хотя с большим удовольствием ночевала бы у Хелми в городе. Но что-то все же заставляло ее оставаться в отчем доме, несмотря на то, что вскоре ей стало в нем тесно, – да что там, теперь, когда все братья и сестры были в сборе, ее состояние граничило с клаустрофобией. Она сначала даже не поняла, что с ней такое, и только потом к ней медленно пришло осознание происходящего.
Анни выжидала. Сперва неосознанно, потом осознанно.
Пентти большую часть времени проводил в коровнике. Что он там делал, никто не знал, потому что больше к нему туда никто не ходил. Он появлялся к обеду и ужину, но в остальное время его никто не видел. Бывая дома, он вел себя как обычно, возможно даже еще более оживленно, чем обычно, а может, и нет. Может, Анни так просто казалось.
В первый день нового года Пентти взял свой старый пикап и отправился на нем к одному из своих братьев, к тому, что жил на шведской стороне к северу от Аапаярви, в Лайнио. Уезжая, он ни с кем не попрощался, а остальным и подавно не было до него дела.
Обычная поездка, ничего особенного. В начале января они всегда ездили навещать своих родственников, и Сири сопровождала мужа вместе с маленькими детьми, но в этом году это даже не обсуждалось. Пентти просто собрал сумку и уехал прежде, чем кто-либо успел проснуться. Никто из детей так и не узнал, что он и Сири сказали друг другу на прощание. Возможно, что ничего. А может быть, все.
Анни приглядывалась к матери, пытаясь понять, не начали ли в ней проклевываться ростки чего-то нового, но, во всяком случае, внешне, мать никаких таких признаков не подавала. И они с Эско только и ждали подходящего случая, чтобы приступить к осуществлению задуманного. Очевидно, отъезд Пентти оказался именно таким случаем.
Когда Пентти уехал, казалось, сам дом вздохнул с облегчением. В нем и без того было тесно с Анни, Лаури, Тармо плюс Тату появлялся каждую ночь.
Но когда уехал Пентти, все сразу ощутили, что в доме стало свободнее и легче дышать.
И уже нет такой клаустрофобии.
И куда менее тягостно.
Они во всем помогали друг другу. Тармо, Лахья и Вало доили коров, а Анни и Хелми частично взяли на себя бремя забот по дому. Хелми вместе с Малышом Паси почти все время проводили в Аапаярви, пока Паси снова пребывал в загуле. Анни не спрашивала, а Хелми и не рассказывала, но Анни замечала в глазах сестры тень чего-то большего, чем обычная усталость. Однако у нее никогда не было времени поговорить с сестрой, и зачастую у Анни даже возникало чувство, что, может, это все пустяки, просто померещилось. Каждый раз, когда у нее возникало желание остановить сестру, дотронуться до ее руки и спросить, как у нее на самом деле обстоят дела, Анни говорила себе, не лучше ли просто взять и плюнуть на все, что это не ее проблемы и, вообще, какое ее дело. Между тем Малыш Паси был очень живым ребенком, еще более живым, чем его дяди и тети в том же возрасте: он повсюду лазил, невзирая на свои юные лета, и Хелми приходилось постоянно за ним присматривать.
Арто не умрет. Во всяком случае, не от ожогов, это точно. Маленькие дети, на них так быстро все заживает. И они так легко забывают.
Казалось, случившееся почти не повлияло на него. Он все еще страдал от боли, но в основном только по ночам. Куда больше его радовало то, что почти все его старшие братья и сестры собрались вокруг него и уделяли ему столько внимания, сколько ему в жизни и не снилось.
Даже Онни, который был на два года младше брата, понемногу начало утомлять, что все носились с Арто как с писаной торбой, нянчились с ним, постоянно при этом интересуясь его самочувствием. Пора было положить этому конец.
Как-то раз днем Онни примчался, истошно вопя, словно начался пожар. Он орал, что получил ожоги четвертой степени. Кожа по всему его телу отслаивалась большими кусками, и он выл как безумный, когда кто-нибудь порывался ему помочь. Оказалось, он подслушал доктора Виисенмаа, когда тот навещал Арто, и уяснил себе, что то, что случилось с его братом, очень больно, но бывает и похуже, когда человек за раз теряет всю кожу, отчего становится похожим на сосиску без шкурки.
Не пожелав мириться с тем, что ему, как самому младшему, больше не уделяют столько внимания, как раньше, и памятуя о том, как выглядели ожоги Арто, Онни содрал со всех сосисок шкурки и с помощью древесного клея приклеил их на свое тело, чтобы потом внезапно влететь и напугать всех кожей, отваливающейся большими кусками.
Шкурки от сосисок отвалились, но взамен Онни заработал сильнейшую аллергическую реакцию на клей. При этом выглядел он просто ужасно: весь красный и с невыносимым зудом по всему телу, но к счастью (или к несчастью, это как посмотреть) невредимый.
Братья и сестры смеялись над ним, и Сири смеялась вместе со всеми, когда улегся первый шок.
– Повезло, что Пентти рядом нет – его бы удар хватил, если бы он увидел, все эти пригодные для дела колбасные шкурки, которые нам теперь придется выбросить.
У Анни было как-то странно на душе. Поскольку Арто вернулся домой как раз накануне Сочельника, они с Эско успели утрясти все детали своего грандиозного замысла. Эско имел с сестрой повторный разговор вечером перед Сочельником, после чего вернулся обратно, к жене и детям. На этот раз они с Анни отправились не в гараж, а в баню, чтобы спокойно все обсудить без свидетелей. Все уже вымылись перед Рождеством, но в предбаннике до сих пор ощущалось приятное тепло, поэтому там можно было спокойно сидеть, не боясь замерзнуть.
То, что Эско рассказал о Пентти, не казалось чем-то из разряда вон выходящим. Словно этого вполне можно было ожидать. Конечно, слушать о таких вещах неприятно, но и ничего удивительного в этом тоже не было. А Эско, кажется, твердо решил купить ферму.
Анни полагала, что это неплохо. Потому как сама была не в том состоянии, чтобы всерьез заниматься делами. Именно поэтому Эско и обратился к ней. Она жила в доме, ступала по тому же полу, по той же земле, по тем же дорогам, по которым ходила всю свою жизнь, и все-таки ощущала себя здесь чужой. Словно ее мысли постоянно перескакивали на что-то иное, на жизнь ее будущих детей, к примеру.
Эско хотел, чтобы они составили план и выработали порядок действий: что, как и когда они будут делать.
Чтобы поговорить, наконец, с Сири.
Они были вынуждены это сделать. Она была вынуждена это сделать. Донести до матери, что вместе они сильнее. Вдохнуть в нее смелость мечтать о другой жизни.
Вместе у них должно получиться. И все-таки происходящее казалось Анни таким… неважным. Да, пожалуй, это было самое подходящее слово из всех, какие пришли ей на ум.
Все, что происходит здесь и сейчас, в один прекрасный день тоже будет забыто. Равно как и все остальное.
Никто ни о чем не вспомнит, не запишет и не расскажет об этом в книжке. Эти мысли ее утомляли. Анни устала. Больше, чем обычно. Во время беременности такое бывает.
Она не знала, откуда берутся у нее эти мысли. Может, от ребенка, что растет у нее в животе? Может это тьма внутри плода отравляет ее изнутри? А может, это все началось, когда она приехала в Аапаярви.
Или когда Арто упал в кипяток.
Или когда приехал Лаури.
Анни так привыкла к свободе, что теперь, когда вокруг нее было столько народу, родной дом начинал вызывать у нее чувство клаустрофобии.
В дорожной сумке Анни, хранившейся под кроватью, лежал ее обратный билет с неуклонно приближавшейся датой отъезда. Никто не знал, когда она уедет. Она даже сама толком не знала – уедет, или ей придется задержаться здесь на подольше. Чтобы разобраться со всем этим беспорядком, как обычно. Хотя на этот раз, наверное, не так, как обычно.
Анни и Эско еще долго разглагольствовали на тему, как лучше преподнести суть дела, чтобы Сири их выслушала. Само собой, присутствие Пентти при этом вовсе необязательно. Хорошо бы, если бы этот разговор состоялся не здесь, а у кого-нибудь дома. На нейтральной территории. Но что тогда сказать братьям и сестрам? Анни переговорила с Хелми и Лаури, но остальные тоже имели право знать, о чем будет идти речь на этой семейной встрече. Кроме Онни и Арто, конечно. В итоге они договорились о дне, когда соберутся все вместе, и оказалось, что это был тот самый день, когда Анни собиралась отправиться обратно домой в Стокгольм. Эско она по этому поводу ничего не сказала, потому что до сих пор не знала, как ей следует поступить: остаться или уехать. Сделать то, что от нее ждут, или пускай сами разбираются. Позволить кому-нибудь другому сделать ее работу.
Конечно, она могла поменять билет и уехать на день позже. В конце концов, ресторан, в котором она работала, был закрыт до конца января, так что ее никто не хватится, если только Алекс, но ничего, переживет. Днем раньше, днем позже – какая разница? Он хотел, чтобы она ему позвонила, он сам ей об этом сказал, но когда она набрала его номер, оказалось, что они не могут ни о чем говорить. На обоих концах провода царила тишина. У них так много было сказать друг другу и так много всего, что следовало обсудить, принять решение о будущем, – об их совместном будущем, между прочим, – а Анни по-прежнему не могла об этом говорить, ну а Алекс… Алекс просто ждал.
Так что денек-другой он может еще подождать.
Между ними не было той страстной любви, о которой так мечтал Алекс. Была у него такая способность – любить горячо и страстно, как в кино.
На что была способна Анни – этого она и сама не знала.
Она видела, как люди повсюду любят друг друга, словно это было самое большое и важное, что только может случиться в жизни. Видела не только в кино, но и в реальной жизни, и порой ей казалось, что все вокруг буквально пропитано этим чувством. Она видела перед собой своих братьев и сестер, во всяком случае, некоторых из них, переполняемых чувствами, изголодавшихся, мечтающих жить в водовороте страстей, но ей самой подобная ситуация казалось тягостной и немного неловкой. Запутанной и беспорядочной, липкой и грязной.
Просто у некоторых людей потребность жить вместе выражена гораздо сильнее. Быть может, они даже сам смысл своей жизни видят в том, чтобы разделить ее с другими, словно только это оправдывает их право на существование, которую их собственная коротенькая жизнь оправдать не в силах. Но Анни явно была не из таких.
Она была островом, и ее саму это вполне устраивало.
И вот знаменательный день настал, третье января – дата ее отъезда в Стокгольм. Пентти уже три дня как был в отъезде. У всех и каждого за время его отсутствия успели расслабиться плечи. А еще это был день, когда они собирались поговорить с Сири. Для этого они решили встретиться дома у Хелми, все вместе, кроме Онни и Арто.
Воитто они тоже не стали привлекать, хотя и сделали слабую попытку связаться с ним. (Но именно что слабую). Все знали, что брат сейчас на Кипре, где служит в войсках особого назначения.
Тату, который в последнее время регулярно ночевал в родительском доме, был единственным из сестер и братьев, кто разделял привычку Анни к здоровому сну или, правильнее сказать, пока все остальные гуляли где-то вне дома и решали какие-то свои вопросы, Анни и Тату предпочитали оставаться в родных стенах.
Анни плохо спала по ночам, зато утром подолгу оставалась в постели, выжидая, пока не опустеет дом. После этого она могла спокойно прошмыгнуть на кухню, чтобы сделать себе бутерброд с маслом и приготовить чашку черного кофе, который потом подолгу стоял на столе, отчего становился смольно-черным и густым как патока с тем самым характерным привкусом горелого, который обычно вызывал у нее отвращение, а сейчас казался вполне терпимым, потому что напоминал ей о доме.
В этот день Анни принесла свой завтрак к себе в спальню и вытащила дорожную сумку из-под кровати.
Она сидела на краю постели, пытаясь упаковать вещи и одновременно что-нибудь съесть, когда в дверном проеме внезапно вырос ухмыляющийся Тату.
– Что, сестренка, решила сбежать, когда настала пора действовать?
Он стоял на пороге в поношенных трусах до колен и майке, нечесаный и с этой своей всегдашней кривой улыбочкой, и пытался удержать на ладони чашку с кофе. Он взял одну из маленьких, в цветочек, чашечек из дорогого фарфора, которые доставали только по большим праздникам, но это так похоже на Тату – не знать таких вещей, или он просто не смотрел, что берет. Так же похоже, как и эта его всегдашняя дурацкая ухмылка, стянутая рубцами и шрамами.
Анни не знала, что сказать. Это было все, о чем она могла думать в последние дни. И в итоге инстинкт бежать куда подальше одержал над ней верх. Она с легкой покорностью улыбнулась ему. Тату, казалось, забавлялся ее растерянностью, но так, немножко.
– Ой, не смотри на меня так серьезно. Я могу тебя подвезти. Когда у тебя автобус?
Порой судьбы некоторых людей кажутся нам куда более предопределенными, чем все остальные. Словно смотришь на них в ретроспективе, на то, какими они были в прошлом, и понимаешь, что оказаться в ином месте или поступить по-другому они просто не могли. Тату был именно таким ребенком. Про таких говорят «в рубашке родился»: весь такой солнечный, жизнерадостный и всеми любимый, и все-таки, а быть может, как раз поэтому, на его долю выпало куда больше бед и неурядиц, чем отмерено обычному человеку.
Что же вырастает из таких детей?
Тату Олави был восьмым ребенком в семье Тойми, но сам он, кажется, никогда особо над этим не задумывался. Во всем, что касалось его, он был первым и единственным.
И таким он был даже для Сири. Она бы никому не сумела объяснить, почему так, скорее всего, она бы в этом даже не призналась, спроси у нее напрямую, но все и так было видно невооруженным глазом. Что бы ни вытворял Тату, ничто не могло вывести его мать из душевного равновесия.
Разве что растрогать до слез (он вызывал у нее слезы и радости, и печали).
А еще он был страшно избалован.
Но ее любовь к восьмому ребенку, пятому сыну была как скала – вечная и незыблемая.
Возможно, именно из-за любви матери он был начисто лишен отцовской любви?
С того самого апрельского дня, когда родился Тату, он вызывал у Пентти плохо скрываемое раздражение, которое отец прежде редко испытывал. Неприязнь с самого начала, отчего эти двое никогда не могли стать ровней.
Возможно, все дело в том, что Тату был Овном по знаку зодиака, совсем как Пентти?
И он на интуитивном уровне инстинктивно чувствовал, что этому ребенку суждено его сменить?
Овен – огненный знак, лидер по натуре и довольно агрессивная личность. Овен никогда не оглядывается назад и не смотрит по сторонам. Разумеется, между представителями одного и того же знака может быть большая разница, все зависит от положения луны по отношению к планетам, когда именно человек родился и от того, какие у него в роду были предки. У Пентти налицо были два главных качества – агрессивность и взгляд, устремленный четко вперед, но он нес в себе тьму, – нечто, что медленно двигалось в нем, словно густое вязкое масло или простоявший слишком долго черный кофе, и все, чего касалась эта чернота, тоже становилось черным, почти несмываемым.
Тату одновременно был похож и непохож на своего отца. В основном, непохож. Потому что Тату шел по жизни смеясь, а если, не смеясь, так улыбаясь. Он словно в каждую секунду готов был пожать плечами и, беззаботно насвистывая, пойти дальше. Сам Тату никогда особо не задумывался над чувствами, которые он испытывал к окружающим, – ни к матери, ни к отцу, ни к сестрам с братьями. Он не зацикливался на несправедливостях, не питал злобы, и если сердился на что-то, то говорил прямо, все как есть, громко и четко, но сердился он редко. Тату мог дразнить своих сестер и братьев, и те пытались дразнить его в ответ, но их слова его не трогали, в то время как они, напротив, могли разъяриться от его способности подмечать любую, мало-мальски заметную слабость.
Это было его даром, или проклятием, тут уж как посмотреть, но он не умел этим пользоваться – просто владел и все. Сама жизнь представлялась ему даром, которым он с рождения был наделен – не то чтобы он высказывался в подобном духе, но так оно и было.
Он всегда был стройным и подтянутым, хорошо выглядел (если не брать в расчет шрамы). Темные волосы и карие миндалевидные глаза. Из всех детей он больше всего походил на Пентти, но Пентти был низеньким, а Тату – высоким, почти метр девяносто. Его худощавое тело и размашистая походка смягчали его рост, словно он все время приседал, но уж если он вытягивался и замирал неподвижно, то выглядел статным и величественным Его отношение к жизни, уверенность в том, что она принадлежит ему, позволяли ему идти по ней, как местная торнедаленская кинозвезда, израненная на своей собственной войне, во время которой он и проделывал свои трюки. В тюрьме, кстати, были обязательны занятия физкультурой, и Тату, который за свою жизнь не пробежал ни метра, окреп и впервые обзавелся какими-никакими мускулами, и ему это шло.
Тату обожал машины. С самого детства ему нравилось с ними возиться, сидеть в них, водить, рисовать, рассматривать в газетах и через окно, да все что угодно!
Свой первый автомобиль он купил уже в двенадцать лет. Он все лето помогал соседу с трактором, водил его, смазывал и даже пару раз чинил. В итоге в качестве платы он получил старую «Ладу» рвотно-зеленого цвета, ржавевшую у соседа во дворе. Тату сам назначил такую цену с условием, что ему разрешат делать с машиной все, что только его душе захочется.
Ему понадобилось три месяца, чтобы починить «Ладу», и она наконец смогла проехать тот несчастный километр, отделявший двор соседа от его собственного. Когда Тату, рыча и газуя, въехал во двор родной усадьбы, в его глазах был триумф. К неудовольствию Пентти он закатил колымагу в гараж. Выходило, что пикап Пентти лишился своего законного места, но тут вмешалась Сири и заметила мужу, что он все равно никогда не ставит машину в гараж, и это было правдой, поэтому Пентти не стал ничего делать, а только ворчал и жаловался каждый раз, когда в разговоре всплывала автомобильная тема, а такое происходило часто, ведь его сын в основном только об этом и говорил. Причем Тату явно был не из тех, кто способен просекать настроение окружающих, он просто не понимал или же ему было наплевать, что остальные не желают слушать его долгие разглагольствования о карданном вале, цилиндрах, поршнях или рассуждения о преимуществах «Мерседеса» перед остальными брендами, и что тот, у кого есть хоть какое-то подобие мозгов в черепной коробке, ни за что не купит машины иной марки. (Впрочем, последнее заявление в той или иной степени повлияло на всех членов семьи Тойми, потому что после него уже никто не водил других автомобилей, кроме «Мерседеса».)
Гараж был маленьким, и Тату проводил в нем все свое свободное время. Он даже спал в нем: забирался на заднее сиденье «Лады», когда уже начинало светать, и дремал, укрывшись курткой.
Ранним утром, поздним вечером и даже ночью его можно было найти в гараже склонившимся над двигателем или лежащим под капотом. Заработавшись, он забывал о времени и пространстве и, кажется, даже не замечал смены времен года. При этом он мерз и потел куда меньше остальных в этом гараже с плохой теплоизоляцией.
Для всех остальных возиться в гараже в студеную январскую ночь было сродни безумию, но не для Тату. Казалось, он вообще был невосприимчив к низким температурам.
Сухой мороз иссушил дерево, сделав его легковоспламенимым. Включенное в машине радио заглушало все звуки, и Тату не слышал характерного потрескивания, пока не стало слишком поздно.
Плохо, что Тату не чувствовал мороза, хотя температура была минус двадцать градусов, иначе бы он остался сидеть дома в ту январскую ночь 1976 года, когда внезапно загорелся гараж. Тату пытался выбраться наружу, но его здорово приложило обрушавшейся балкой. От удара он потерял сознание, но в самый последний момент его спасла мать, которая вытащила его из объятой пламенем рухляди. Словом, все могло закончиться очень плохо, еще хуже, чем на самом деле кончилось. В итоге Тату (и Сири тоже) отделался длительным пребыванием в больнице, после которого на его теле навсегда остались отметины – большой коричневый шрам на спине и та самая холмистая горка на левой щеке. Но Тату больше оплакивал гараж, чем свое лицо.
Да, пожалуй, он был единственным, кто взаправду горевал о потере гаража, потому что вместе с ним сгорела «Лада» и бо́льшая часть его инструментов. Пентти же, напротив, был доволен случившимся, потому что полученные по страховке деньги полностью покрыли все расходы на постройку нового гаража. Сири очень переживала из-за несчастья, постигшего ее сына, и оплакивала его изуродованное лицо.
Пентти частенько шутил о сгоревшем гараже, но никто не находил его шутки смешными, кроме разве что Вало, да и то лишь потому, что ему было всего одиннадцать лет от роду и он еще не понимал всего. Все это постоянно приводило к ссорам между родителями, возможно, это были единственные моменты, когда Пентти удавалось довести Сири, которая в обычном случае лишь пожимала плечами в ответ на его глупости.
Со временем пожар в гараже превратился в забавную историю даже для Тату, потому что новый гараж был в два раза больше старого, имел хорошую теплоизоляцию, и в нем было не страшно проводить холодные зимы, даже когда температура опускалась ниже тридцати градусов, как порой бывало. В гараж провели даже электричество, так что теперь в моторе можно было копаться сутками напролет.
Пентти не считал, что делает сыну подарок, предоставляя Тату свое личное пространство, где тот мог проводить все свое время. А он даже став взрослым, продолжал сбегать туда, когда окружающие становились слишком назойливыми или требовательными к нему. И теперь, когда ему в первые в жизни пришлось столкнуться с тяготами любовных отношений и нести ответственность за кого-то еще, кроме себя, он снова оказался в гараже. Только здесь он мог обрести покой. И ему было все равно, какими прозвищами награждали его братья и сестры, он лишь ухмылялся, когда их слышал, но сам себя он всегда представлял как Тату и никогда как Ринне.
Тату рано утратил всякое уважение к скорости и правилам дорожного движения. Он умел хорошо водить, если того хотел, но чаще всего он этого не хотел. К спиртному он подавно относился безалаберно и, несмотря на свои юные лета, имел порядочный опыт возлияний, спасибо генетике и, в не меньшей степени, широким взглядам на жизнь. Так что нетрудно было догадаться, какие последствия подобного отношения к алкоголю ожидали его, если он не пересмотрит свои позиции.
Короче говоря, Тату ни к чему не имел уважения и, по его словам, у него не было на это ровным счетом никаких причин. Зачем он должен меняться? Могут ли люди вообще меняться? Не лучше ли просто постараться жить бок о бок, а когда не получается, просто разойтись в разные стороны, пожелав друг другу долгой и счастливой жизни?
Благодаря своему стилю вождения он уже успел забрать две человеческие жизни. Слава Господу, что он был трезвым, когда это случилось, иначе наказание было бы куда серьезнее.
Все произошло на известном всей округе крутом повороте на окраине Рованиеми. Как раз ударили первые осенние заморозки, и дороги покрыло льдом, но Тату прошел поворот чересчур стремительно, вдобавок дело происходило в сумерках, и горе-водитель совершенно не заметил двух старушек, направлявшихся домой с церковного благотворительного базара.
Бум. Шмяк. Одна скончалась на месте, вторая – чуть позже в больнице, у нее открылось обширное внутреннее кровотечение, и ее, к сожалению, не сумели спасти.
Две женщины, шестидесяти и шестидесяти двух лет – их больше не было в живых из-за небрежной манеры Тату входить в крутые повороты и отсутствия уважения к правилам и вообще, к жизни. Ведь не скажешь же людям: просто держитесь подальше от Тату, и тогда все будет в порядке.
Это случилось в ноябре 1979, Тату всего несколько месяцев как получил свои первые водительские права. Прежде ему уже случалось улетать в кювет, ломая себе ребра и набивая синяки, но при этом никто больше не страдал, кроме него самого.
Заседание суда состоялось в апреле, спустя две недели, как Тату исполнилось двадцать. Его приговорили к тюремному заключению сроком всего на один год, но даже этот год показался вечностью и слишком суровым наказанием для Тату, но для семей погибших старушек это было слабое утешение. Позже братья и сестры дискутировали на тему, повлияло ли на решение судьи безнадежно изуродованное лицо Ринне.
Сири присутствовала на суде, а Пентти нет. Слишком много хлопот и слишком мало интереса к пятому сыну. На Тату это никак не повлияло, ему вообще было все равно, что говорил или делала его отец. Ни сейчас, ни тогда, ни потом.
Ему, конечно, было жаль этих двух престарелых теток, но в жизни Тату все было простым и понятным. Пока что-то на виду, значит, оно есть, но стоит ему исчезнуть, как его словно бы никогда и не существовало.
Проще говоря, хороша память, да коротка.
Как это ни странно, но в тюрьме Тату понравилось.
Четкий ясный распорядок дня и, пусть он скучал по гонкам на трассе и пьянству, он еще никогда не чувствовал себя так хорошо, как в кеминмааской тюрьме.
Тату был себе на уме, ни с кем не ссорился, следил за собой и добросовестно выполнял ту работу, которая была ему поручена, а предоставляемую ему свободу тратил на отжимания, подтягивания и курение, а еще на разборку и починку всего, у чего есть мотор.
За решеткой было лучше, чем дома.
Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец, и Тату за примерное поведение досрочно освободили из тюрьмы, где он отсидел всего шесть месяцев вместо двенадцати.
У ворот тюрьмы его встречали Хелми и Вало. Они приехали на черном «Мерседесе» брата, потому что после той рвотно-зеленой «Лады» он – и вся родня, кстати, тоже – раскатывали исключительно на «мерсах», и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Брат и сестра обняли Тату, вручили ему сигареты, бутылку «Коскенкорвы» с брусничным морсом и они все вместе отправились в Рованиеми, чтобы отпраздновать освобождение. Они отправились в Городской Отель не потому, что он был самым крутым, просто это было единственное открытое в этот поздний час заведение. И по дороге к нему Тату впервые увидел Ее. С большой буквы «Е».
Ее звали Синикка, и она была младшей сестрой Вели-Пекки Виртунен, школьного приятеля Воитто, рокера, которого Тату порой встречал на сходках байкеров, саму Синикку он в упор не помнил, но ей только исполнилось восемнадцать, так что это было вполне объяснимо.
Она была красива на торнедальско-финский манер, с примесью саамской крови. Ее кожа казалось почти прозрачной, высокие скулы, кошачьи глаза, такие яркие, что они ослепляли каждого, кто всматривался в них. В придачу у Синикки был хриплый смех, россыпь веснушек на носу и светлые волосы. Она носила узкие джинсы, выросла среди старых колымаг и знала о запчастях почти столько же, сколько сам Тату.
Синикка, кажется, искала причину неисправности в двигателе, когда откуда ни возьмись появился он, только что выпущенный из тюрьмы, со своими угольно-черными волосами, кривоватой улыбкой и худыми пальцами в пятнах от масла, которые не отмыть, сколько ни старайся.
Это была любовь с первого взгляда.
Они завершили свое воссоединение сперва в туалете Городского Отеля, а потом несколько часов спустя уже у нее дома. Они почти не спали и проболтали всю ночь напролет, в промежутках между поцелуями узнавая о жизни и мечтах друг друга.
По большей части они хотели одного и того же. Или, точнее, им нужно было-то всего ничего, ну, может вкалывать на небольшом участочке земли или просто ремонтировать тачки и красить ногти – наверное, это был не самый худший вариант для каждого из них. Но вот любовь, их любовь, она была важна. Важнее всего. Настолько, насколько любовь вообще может быть важна для людей. Казалось, для них всегда будет сиять солнце, пока они будут видеть свое отражение в глазах друг у друга. Тату покинул ее на рассвете, и они оба знали, что это оно, то самое.
Тату вернулся домой как раз в тот момент, когда Сири собиралась идти доить коров, но при виде сына она уронила ведро и, подбежав к нему, бросилась ему на шею.
– Мой дорогой мальчик, где ты был?
– В тюрьме, мама, ты же знаешь.
Она оба рассмеялись, а потом Тату подхватил свою маму и закружил. Сири еще никогда не приходилось разлучаться со своими детьми на столь долгий срок, особенно с самым любимым из них, пятым сыном. Наконец, он поставил ее на землю, и они оба сразу сделались серьезными. Сири отстранила его от себя и оглядела сверху донизу критическим взглядом.
– Дай-ка я взгляну на тебя. Как же ты отощал!
И Сири стиснула руки сына и ущипнула его за бок, сама недовольная тем, что сказала.
– Ой.
Тату обхватил своими длинными худыми пальцами лицо матери.
– Матушка, это случилось. Я встретил ее.
– Кого?
– Ее с большой буквы Е. Ту, на которой я женюсь. Ты не знаешь ее матушка. Но я люблю ее. Синикку.
Мать никак не отреагировала на данное заявление. Тату даже засомневался, слышала ли она, что он сказал, несмотря на то, что знал – слышала. Сири посмотрела на него, а потом взяла его руки в свои и поцеловала их, точно так же, как она целовала их, когда он еще только родился и лежал в корзинке рядом с ней на одеяле, или когда они косили сено или в коровнике, когда она доила коров. После чего подмигнула ему.
– Поторопись, пока Пентти не проснулся, – сказала Сири и нежно погладила сына по щеке.
– На завтрак будет твоя любимая запеканка из печени.
Тату улыбнулся матери и отправился в дом. Сири же осталась стоять во дворе и смотрела ему вслед, словно прежде чем снова вернуться к своим каждодневным обязанностям, хотела сперва убедиться, что сын действительно теперь дома.
Тату вошел на кухню, на которой не был целых полгода. Даже не зажигая света, он понял – нет, даже почувствовал – что здесь все осталось, как было, и останется таким же до скончания веков.
В кухне царил полумрак, в печке трещали поленья. Прежде чем отправиться доить коров, Сири всегда сначала растапливала печку. Тату потребовалось время, чтобы глаза привыкли к темноте. Но когда это случилось, он увидел, что Пентти уже был там, на своем привычном месте. Он сидел в тишине и молча разглядывал своего пятого сына, держа в руках чашку с кофе. Тату рассмеялся, пожалуй, немного нервно.
– Voi vittu, ты меня напугал отец.
Пентти вздернул одну бровь и отхлебнул кофе. Чашка в его руке казалась совсем крошечной.
– Да что ты? Странно. Я сижу здесь довольно часто. Впрочем, откуда тебе знать.
Тату уже успел позабыть это чувство. Смутную, неприятную дурноту, которую порождал отец. Она просто исчезла на время, стоило Пентти пропасть из виду, а теперь вновь появилась, и Тату только сейчас вдруг осенило, что она вполне походила на то состояние, какое возникает, когда тебя укачает. Сам Тату подобного никогда не испытывал, но интуитивно чувствовал, что по ощущениям похоже.
– Я женюсь, пап, – сказал Тату, которого ничуть не задел тон отца.
Он рано этому научился – не показывать отцу, что тот хоть как-то его задевает. Для таких он пах как барсук. И никогда не давал спуску.
В ответ Пентти лишь кивнул, словно уже заранее об этом знал.
– Значит, ты уедешь отсюда, – заметил он.
– Да, вероятно, – отозвался Тату и налил себе чашку кофе.
Он встал у кухонного окна и уставился вдаль, на горизонт, где в туманной дымке таилось его будущее, которое мог увидеть только он. Он больше не слышал, что говорил отец, если тот вообще что-либо говорил. В глубине души, в своей маленькой коробочке в форме сердца, он хранил улыбающееся лицо Синикки, оберегая его от ехидных взглядов отца.
И благодаря Тату решилась и Анни.
Она поедет домой. В Стокгольм. В свою квартиру, которая станет ее новым домом.
И попросит Алекса переехать жить к ней. А Лаури пусть съезжает. Ладно, пусть не сразу, пускай сначала найдет себе новое жилье, но все равно как можно скорее. В ближайшее время. И потом, брат стал таким угрюмым и резким с тех пор, как Анни вынудила его сюда приехать, что она посчитала, что будет неплохо отделаться от него и его капризов.
Она сделает ремонт и обставит детскую. Думая об этом теперь, Анни чувствовала себя такой радостной, почти возбужденной. Усыпляющая усталость, которая тяготела над ней, словно грозовая туча, слегка развеялась, и она мысленно понеслась дальше, планируя и придумывая. В ее мечтах комната была уже обклеена симпатичными обоями в мелкий колокольчик, а вот белые занавески можно оставить. Кровать, которую она обязательно купит… Или они. Тут Анни вскользь, слегка, ощутила все то, что лежало сейчас перед ней, их совместная жизнь, их будущее под одной крышей, зарождающаяся семья, возможно, все так оно и будет, как в кино, с Анни в главной роли. Мягкий ковер, удобное кресло, чтобы сидеть и кормить грудью, что-нибудь милое и жизнерадостное на стенах, на что будет падать глаз ребенка каждый раз, когда он проснется. Сбежать с одной неприятной сцены на другую, поменьше, но уже не кажущейся такой неуютной по сравнению с первой. Тут Анни подумала, что это беременность сделала ее такой склонной к бегству. Ей просто очень хотелось уехать, и при мысли, что чуть позже, но уже сегодня, им предстоит собраться и выступить перед матерью, ей становилось почти дурно. Она мысленно видела перед собой лицо Сири, представляла, как будет выглядеть мать, как она из всех сил будет стараться удержать маску перед своими детьми – удастся ли ей это? А если не удастся, если она сломается, тогда они все сгрудятся вокруг нее и станут утешать, будут гладить ее по волосам, шептать «ну-ну, что ты?». Оба варианта развития событий казались Анни невыносимыми. Поэтому ей внезапно показалось возможным ехать в Стокгольм и начать жить и строить дом для толкающегося крохи в животе.