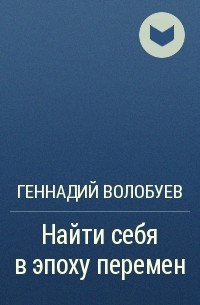Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Сирена
Ему два года. Золотой прииск на Дальнем Востоке. Деревянный домик, завалинка. Малыш усердно заталкивает в рот битые стёкла и пытается жевать. Сестра в ужасе вынимает их изо рта. Крови нет. Малыш недоволен. Ему не дали продолжить знакомство с этим коварным и неизвестным миром. Он не знает, какие опасности ещё могут подстерегать. Его садят в самолёт с открытым верхом. Мать укутывает заботливо в тёплое одеяло и прижимает к себе. Самолёт круто взлетает над посёлком, внизу огороды, кривые улочки. Не самолёт, а его родина, улетает стремительно в никуда… Отец здесь временно работал старателем. Теперь он возвращается с семьёй на родину, в Западную Сибирь. Ветер проникает в одежды пассажиров и срывает тёплое одеяло с мальчика. Мама едва удерживает малыша, пытается согреть. Первое знакомство с небом, первая высота и лёгкое испытание. Потом длинный путь по железной дороге.
Как он мог запомнить всё это? Почему держатся в памяти эти две картины, а всё остальное забыто? Почему они время от времени приходят такими живыми в голову Алёшки? Он сжимает кулаки, внимательно рассматривает всё вокруг и думает: «А так ли всё это было, или мне приснился сон? Я больше ничего не помню. Почему я не порезался тогда стеклом? Как мы не выпали из самолёта?»
На одно мгновение всё вокруг растворилось, ему привиделись только белые высокие облака и какая-то едва различимая птица, как ему показалось, пролетела между ними… «Так уже было, когда самолёт набрал высоту», – подумал он.
Летними тёплыми вечерами, оставив многочисленные хлопоты по дому, соседи семьями собирались во дворах. Солнце опускалось за горизонт, прощаясь с ними искрящимися лучами до следующего утра. Ребятишки на глазах у родителей играли кто в городки на вытоптанной площадке, кто строил домики в песке, а кто гонял на самокате. Мужчины и женщины, завершив все свои домашние дела, часто объединялись в кружок на траве, отдыхали, играли в лото. На кону лежали копейки, но это не снижало азарта игроков. Время от времени из-за деревьев на пригорке слышался грохот поездов. Быстрый перестук колёс, натруженный и всё нарастающий мощный гудок паровоза, напоминал о железной дороге – Транссибирской магистрали, той ниточке связи с большой страной, которая здесь ощущалась непосредственно и зримо. Подросток Алёша замирал на мгновение, прислушиваясь к тяжёлому ритмичному звуку, и на минуту уносился вместе с ним – то на Запад, то на Восток. На Западе – сказочная, неведомая и манящая своей историей Москва, на Востоке – Тихий океан, корабли, романтика моря… Какой парнишка не мечтал о море… Эта дорога связывала миры и подогревала мечты – такие пылкие, не окрепшие, шальные. Алёшка с ребятами часто бегал на станцию, лазил по пустым вагонам, заброшенным в дальнем тупике. На некоторых они видели пробитые пулями и осколками снарядов стенки и чёрные смоляные пятна на полу. Говорили – это кровь. Вагоны, доставленные сюда несколько лет назад, побывали на войне и ждали ремонта. О железной дороге ходили легенды. Говорили: «В честь Победы, сам Сталин, стоя у открытой двери пассажирского вагона с саблей в руке, проезжал через всю страну, и наш город, на Восток». Ребята верили в это и старались представить себе усатого Генералиссимуса, который мог бы обратить внимание и на них. А родители рассказывали, как ещё в Гражданскую войну, сюда прибывали многочисленные поезда с белочехами, которые, высадившись, стали наводить свой порядок в городе. Даже расстреляли несколько красных партизан.
Дорога приносила и радость и горе. Но без неё люди уже не представляли свою жизнь.
Небольшой шахтёрский город, собранный из нескольких рабочих посёлков и рассечённый надвое Транссибирской магистралью, раскинулся на обширных просторах Западносибирской низменности. Пассажиры транзитных поездов, выглядывая спросонья из окон вагонов, могли наблюдать странные чёрные, почти остроконечные, горы справа и слева по ходу поезда. На некоторых можно было увидеть уже подросшие деревья, зацепившиеся корнями за чёрные и рыжие обгорелые камни террикоников. Это была застывшая в натуре картина прошлого. Терриконики отошли в историю, и современные шахты их давно не имеют. Но, оставшиеся от прошлых лет, они придают уникальный экзотический вид равнинным городкам. Изображение рукотворных гор, похожих на египетские пирамиды, вошло в герб некоторых шахтёрских городов. Начало угольной промышленности здесь было положено ещё в конце XIX века Львом Михельсоном. Копи Михельсона – это одиннадцать крупных дореволюционных шахт, с прекрасным по качеству углём – антрацитом, которые обеспечивали магистраль топливом для паровозов. В XX веке город разросся, старые шахты были поглощены новыми, более глубокими и производительными. Вокруг них вырастали посёлки в основном застроенные деревянными одноэтажными домами. Антрацит стал использоваться для производства кокса, который шёл на металлургические заводы.
Участок, как они его называли, или жилой квартал, где жил Алексей со своей матерью и младшей сестрой, активно стал застраиваться в конце 40-х годов. Здесь заработала новая большая шахта, и неподалёку возводили кирпичные двухэтажные дома в новых жилых кварталах. Это было послевоенное время. Голодное, бедное, неустроенное. А новое жильё поднимало людей на другой уровень, давало возможность обеспечить нормальную жизнь. Бездомные шахтёры, жившие в землянках или коробушках, сколоченных из ворованных на шахте досок (их небольшой посёлок за шахтой так и называли «хип-хап»), порой самостийно захватывали строящийся жилой дом и сами доводили его до нормального состояния. И никто не смог их оттуда выселить.
Крепкие мужчины разных возрастов, стекались из всех уголков пришахтной территории к месту работы. Они посменно спускались в шахты в металлических клетях и давали «на-гора» чёрный блестящий минерал – уголь высшего качества, антрацит – и побочно поднимали породу. Терриконики росли, одна бригада сменяла другую. Шахтёры вгрызались отбойными молотками в угольный пласт, широкими лопатами грузили на конвейер и в вагонетки сыпучую массу, крепили брёвнами отработанные участки лавы и поднимались наверх. В мойке хозяйственным мылом и жёсткими вихорками отмывали въевшуюся в кожу угольную пыль и, переодевшись, отправлялись по домам. Чёрные обводы глаз, словно макияж современных модниц, выдавал их принадлежность к авторитетному клану горняков. Так продолжалось изо дня в день… Шли годы. Город жил размеренной, тихой жизнью. Покой изредка нарушался только страшным, нарастающим, высоким и долгим воем сирены. Будто неведомый дух поднимался в небеса, исторгая крик отчаяния. Тогда все замирали. Если мужья были в смене, женщины опрометью, с бьющимися сердцами, бежали на шахту: там случилась беда. Может, взорвался газ метан, и шахтёры попали в зону пожара. Может, под тяжестью породы, просто произошёл обвал. Сирену зря не включат. Такие трагедии, словно по объективным законам статистики, случались периодически и обрывали определённое количество жизней в расчёте на одну тысячу тонн добытого угля. Кто посещал кладбища шахтёрских городов, видел эту суровую статистику на скромных братских захоронениях. Плотные рядки памятников, с обозначением одной и той же даты, прячутся там за густым кустарником или высокими деревьями, если трагедия случилась давно. А если на открытом поле – совсем свежие холмики, укрытые заботливо ковром из ещё не выцветших венков, значит, не зажила душевная рана у матерей и жён, детей и верных друзей. Это было недавно. И будет повторяться вновь и вновь, повинуясь этим самым непонятным, несправедливым законам и нашей беспечности, желанию получить сразу много, затратив мало. Вой сирены особенно ранил души детей. Тягостное настроение ещё долго преследовало их. Они потом всю жизнь ощущали его трагическую тональность, и вздрагивали, если где-то слышалось нечто подобное.
Запомнился навсегда этот страшный звук и подростку Алёше.