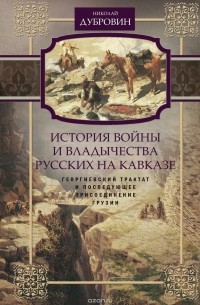Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 11
Помощь царю Ираклию. Вторжение лезгин в Грузию со стороны Ахалциха. Просьбы Ираклия о помощи. Поручение нашему посланнику сделать заявление, чтобы Порта запретила паше Ахалцихскому совершать грабежи в Грузии. Военные приготовления турок. Переговоры Ираклия с Сулейман-пашой Ахалцихским. Участие в переговорах царицы Дарьи. Распоряжение о возвращении русских батальонов на Кавказскую линию
В конце 1785 года царь Ираклий снова обратился к нашему правительству с просьбой прислать ему 30 000 руб. Генерал-поручик Потемкин отправил царю 4000 червонных и обещал прислать артиллерию, подаренную ему императрицей.
Получив деньги, Ираклий передал их Бурнашеву с просьбой сохранить их и не говорить никому. «Если мои родственники, – сказал царь, – узнают о присылке денег, то мне их сохранить будет невозможно».
Бурнашев исполнил просьбу Ираклия, но вскоре получил новую о присылке еще двух батальонов из России. Царь уверял, что без прибавки русских войск он не в состоянии защитить Грузию от многочисленных врагов, в особенности от лезгин, совершающих беспрерывные нападения.
Действительно, в марте 1786 года партия лезгин угнала скот на реке Алазань, другая, вторгшись со стороны Ахалциха, совершала грабежи у Сурама и захватила человек двадцать поселян с их имуществом. Пограничных постов в Грузии не существовало, и лезгины хозяйничали как у себя дома. Правда, с получением известий о вторжении неприятеля Ираклий собрал до 200 вооруженных людей и, присоединив их к 150 нашим егерям, выступил из Тифлиса, но, отойдя 17 верст от города, вынужден был остановиться из-за нехватки продовольствия. «За неимением денег и хлеба, – доносил Бурнашев, – войск грузинских нигде не обретается, и земля сия как будто на расхищение везде оставлена».
Простояв трое суток на одном месте, Ираклий возвратился в Тифлис. Это возвращение показало, что нашим батальонам нечего рассчитывать на содействие туземных войск и что вся тяжесть защиты Грузии от внешних врагов лежит на русских войсках. Борьба с грабителями не представляла бы особых затруднений, если бы наши войска могли находить продовольствие на пути следования, но они ощущали недостаток в пище, даже когда оставались на месте.
Необходимый для продовольствия войск хлеб грузинское правительство брало у жителей бесплатно и этим заставляло их прятать свои запасы в земле. Это обстоятельство вынудило князя Потемкина отправить в Грузию провиантмейстера Козлянинова, которому поручено было заготовить столько провианта, чтобы наши войска не нуждались в довольствии.
«Каждый земледелец, – писал ему князь Таврический, – охотно повезет к вам остатки своего запаса, если будет уверен, что продаст оные сходною ценой без затруднения и остановки и получит за то чистые деньги. Старайтесь передать им сии мысли и утвердить их в оных непременным своим поведением».
Между тем Ираклий уверял, что в Грузии достаточно запасов для значительного числа войск, и вновь просил помощи, так как, по полученным им сведениям, лезгины собирались вторгнуться в Грузию и совершить масштабный грабеж. Сулейман-паша призвал к себе Омар-хана Аварского и, снабдив его деньгами, обещал еще больше, если тот будет поступать по его советам. Жадный до денег, Омар-хан всегда вел переговоры с несколькими людьми и, получая от них подарки, был временным другом того, кто больше давал. Он принял предложение Сулеймана и явился в Ахалцих с 7000 лезгин, передовые партии которых почти ежедневно вторгались в Грузию. Одна из таких партий пробралась почти до самого Тифлиса и в нескольких верстах от города угнала 300 лошадей. Царевич Георгий преследовал грабителей, но безуспешно. Царь просил Сулеймана не принимать к себе лезгин и запретить им вторгаться в его пределы. Сулейман отвечал, что готов исполнить просьбу, если царь даст слово не требовать в помощь русских войск, не примет артиллерии, пожалованной ему императрицей, и не будет прибегать к содействию русских для отражения своих врагов. Если Ираклий согласится исполнить эти требования, Ахалцихский паша обещал испросить у Порты утверждение его владыкой Ганжи, Эривани и многих соседних с Грузией земель. Царь отвечал, что, находясь под покровительством России, не может вступать ни в какие переговоры в обход императрицы. Результатом такого ответа было появление лезгинских партий в разных пунктах: на р. Алгет в 30 верстах от Тифлиса, у Мцхета, у замка Карели, близ Дигома, у Сурама и пр.
Разорение селений и новый увод пленных вызвали со стороны нашего правительства требование, чтобы Порта запретила паше Ахалцихскому содержать лезгин и направлять их на территорию Грузии. Императрица повелела нашему посланнику в Константинополе Булгакову письменно предъявить турецкому министерству, «что мы не можем взирать равнодушно на молчание и медление Порты в справедливых наших требованиях, а потому указали вам объявить, что, буде Порта оставит сего пашу без наказания и смены за его дерзкие поступки пособием лезгинам прикоснуться к границам подданного нашего царя Карталинского, мы в полном праве себя почитаем и, конечно, не преминем употребить силы наши на помянутого нарушителя покоя между двумя державами и упорство Порты вменим в сущее небрежение ее быть в добром с нами согласии. Как скоро только кто из министерства отзовется с каким-либо непристойным изражением (выражением) относительно подчиненности нам земель карталинских, вы решительно скажите, что ежели он делает подобные изъяснения именем Порты, то мы признаем их за сущее нарушение дружбы и самые неприязненные действия, к каковым причисляем мы сохранение близ границ начальника беспокойного и попущение ему, столь явно оказываемое.
Разговаривая с министрами и людьми, в делах силу имеющими, сами ли или через приятелей ваших старайтесь внушить им, что затруднения подобные не принесут ни Порте доброго плода, ни самим правителям дел пособия в прочном сохранении их, ибо, истоща терпение наше, не обойдемся мы, наконец, без крайних мер, а неминуемые из того бедственные последствия, ни на чей счет, как на их собственный, отнесутся».
Пока повеление императрицы достигло Булгакова и он вел переговоры с Портой, Сулейман-паша распустил слух, что султан прислал ему множество подарков и 44 000 червонных для раздачи азербайджанским ханам и дагестанским старейшинам, чтобы они действовали против Грузии. При этом говорили, что Омар-хан Аварский вторгнется в Кахетию, сам Сулейман – в Карталинию, а азербайджанские ханы – со стороны Ганжи и татарских провинций.
Слух этот и план врагов Грузии крайне беспокоил Ираклия. «Поистине объявляем, – писал он П.С. Потемкину, – что таковой опасности, какой ныне Грузия подвержена, никогда не бывало; и после смерти великого шаха Аббаса такого разорения не было, как ныне. Ваше превосходительство видите, как нам, так и царству нашему весьма нужно ваше вспомоществование».
Ираклий просил, не ожидая разрешений из Петербурга, поторопиться с присылкой помощи и поступить согласно трактату хотя бы для того, «чтобы толикие безвинные христианские души не потерпели за верность ее величеству. Дайте им спасение, да не возгласится в свете слово, что во время великой Екатерины и по соединении с Россией Грузия исчезла.
Если вы знаете, что чрез падение царства Грузинского Российская империя будет иметь пользу или прибыль, то как вам угодно, так и поступите. Дайте такую помощь, чтобы (Грузия) противиться могла против неприятелей. Если помощи не будет, то вторично просим для Бога дать нам справедливый (откровенный) ответ, чтобы толикое число христианских душ вечно не потерпели. И того довольно, что прошлого и третьего года потерпела Грузия».
Категорически поставленный вопрос заставил наше правительство снова требовать от Порты, чтобы она запретила пограничным правителям производить вторжения в Грузию. Екатерина II поручила Булгакову вновь подтвердить турецкому министерству, что пределы владений грузинского царя «суть границы наши и что прикосновение к ним удостоверит нас в полной мере в нежелании Порты сохранять с нами мир и спокойствие». В случае согласия турецкого правительства исправить ошибки и восстановить дружественные отношения императрица уполномочила Булгакова заверить Порту, что мы никогда не стремились к войне, «да и не имели бы ее с Портой, если бы турки сами к тому не побудили, что и теперь от них зависит сохранить мир, оставаясь спокойными и не подкрепляя ни прямо, ни косвенно своевольства тамошних народов, что распространение торговли, на обе стороны выгодной, сопряженное с мирным и согласным с соседями пребыванием, мы, конечно, предпочитаем всякому завоеванию, не имея в сем последнем нужды по пространству и величеству империи нашей».
Считая преждевременным открыто вступать в неприязненные отношения с нами, Порта отправила Сулейману строгое приказание не подавать никакого повода к столкновению с Россией, но в то же время сама втайне готовилась к открытию военных действий. В Поти прибыли два военных и 15 транспортных судов, нагруженные значительными боевыми и продовольственными припасами. Как в этом городе, так и в Батуме турки выгружали артиллерию и построили укрепление между рекой Рион и озером Палеостом. Для этих работ были присланы из Константинополя четыре иностранца. Построив укрепление, они обучили 60 турок действиям при орудиях. Ходили слухи, что в Анатолии сосредоточено 35 000 турок и что в Ахалцих прибыл капиджи-баша, которому поручено собрать в окрестностях этого города 12 000 лезгин.
Эти известия с одной стороны, а с другой – запрет Сулейману нарушать спокойствие границ указывали, что все приготовления турок имеют оборонительный характер и что они опасаются, как бы Россия не двинула свои войска через Грузию.
«Напрасно такое их беспокойство, – говорила императрица, – на случай с ними войны, нет нам надобности заготовлять себе путь через сию землю, будучи в силах открыть себе дорогу всюду. Турки не забыли, конечно, переправы нашей через Дунай, хотя мы судов и не имели; не забыли они падения их крепостей и должны знать, что искусные полководцы не ведут второй войны однообразно с первою и не ходят по той дороге, где их ожидают».
Тем не менее слух о приготовлениях турок не мог не беспокоить Ираклия и даже полковника Бурнашева, в распоряжении которого за исключением больных и слабых было не больше тысячи человек, без кавалерии, необходимой для сторожевой и аванпостной службы.
«Бог благословляет иногда, – доносил Бурнашев, – и малое число храбрых войск великими победами в возможных пределах, но в рассуждении продовольствия на случай прихода турецких войск потерпеть могут неминуемое бедствие, ибо не только нет и не приготовляется запасный провиант, но с крайними хлопотами и настоящий (текущий) доставляется. Сие происходит не от недостатка в хлебе, но по невероятно расстроенному грузинскому правлению и по недостатку в деньгах.
Донося о сем, осмеливаюсь всепокорнейше представить, что необходимо оказать стране сей подкрепление и тем оживить надежду народа грузинского, в крайнее уныние пришедшего. По причине разрушения мостов и дороги в горах отчаиваются они получить защищение и, опустя руки, нимало не приготовляются к обороне. По настоящему их расположению весьма нетрудно предвидеть, что когда вступит в здешние пределы турецкий корпус, то город и народ не укоснят отдаться на дискрецию сильнейшего, хотя и в противность желанию его высочества царя».
Генерал Потемкин не верил, что столь большая опасность угрожает Грузии, но для успокоения Ираклия принял меры к починке дороги при помощи наших войск и осетин и сосредоточил у Владикавказа три батальона пехоты, четыре эскадрона драгун и казачий полк, говоря, что при первой надобности двинет их в Грузию.
Имея среди осетин много лазутчиков, Сулейман-паша скоро узнал о распоряжениях П.С. Потемкина и почти одновременно с этим получил известия, что все турецкие войска, сосредоточенные на малоазиатских границах, отданы под начало Батал-паши. Последнее обстоятельство было особенно неприятно ахалцыхскому паше. Стремясь к независимости и имея в лице Батал-паши личного врага, Сулейман опасался близости турок гораздо больше, чем русских. Чтоб избавиться от наблюдений Батал-паши, он решил прибегнуть к хитрости, и в конце августа посланный ахалцихского паши прибыл в Тифлис с предложением, чтобы царь заключил мирный договор с Портой и сообщил об этом верховному визирю.
Предложение было более чем странно. Отправкой договора, заключенного с Ираклием, Сулейман мог убедить верховного визиря в безопасности границ ахалцихского пашалыка и, следовательно, в бесполезности держать в сборе турецкие войска, иметь которые вблизи своих владений он вовсе не желал. Удаление войск было полезно и для Ираклия, и потому после непродолжительных совещаний, проходивших без участия полковника Бурнашева между царем Грузии и уполномоченным Сулеймана, был заключен договор, по которому обе стороны обязались не причинять друг другу ни обид, ни разорений. Для защиты Грузии от неприятельских вторжений Ираклий мог использовать русские войска, но при этом иметь их не больше трех тысяч человек и не просить об увеличении их числа. Сулейман обещал за это не призывать и не содержать у себя лезгин, не покупать и не продавать на азиатских рынках грузинских подданных, не иметь никаких контактов с врагами Грузии и не держать на ее границах султанских войск. Хотя брать на себя последнее обязательство Сулейман, как подданный султана, не имел никакого права, Ираклий считал свое положение до того безвыходным, что готов был заключить заведомо неисполнимый договор, лишь бы временно ослабить разорения, причиняемые вторжениями лезгин. Руководствуясь желанием обеспечить спокойствие своим подданным, царь легко согласился на отправку письма верховному визирю и вручил его посланному Сулеймана.
«Во время нападения на нас неприятелей, – писал Ираклий визирю, – принуждены мы были всегда искать помощи у наших соседей, хотя никогда не имели мы желаемого успеха. Одна только Россия нам и предкам нашим чинила сильные вспомогательства, почему и теперь прибегли мы к высочайшему российскому двору. Ее величество всемилостивейше удостоила нас своим покровительством, пожаловав нам 3000 своих войск для защиты нас от неприятелей. Уже минуло три года, как российские войска находятся в нашем владении, однако же подданным его султанова величества ни тайным, ни явным образом ни малейших не делали мы обид, а впадающим только в наши земли неприятелям, по возможности сил наших, чинили сопротивление. Напротив того, Сулейман-паша, узнав о прибытии к нам россиян, призвал в Ахалцих дагестанцев, которые, разграбив многие деревни в Грузии, побили и увели в плен множество наших подданных. А как между обеими высокими державами состоит мир, то мы, избегая причины к неудовольствию султана, оставили такие набеги без наказания, в чем могут свидетельствовать наши соседи, подвластные Высокой Порте.
Теперь Сулейман-паша, желая пребывать с нами в дружбе, прислал к нам своего кегая, с которым и условились мы, что пожалованные нам три тысячи русских войск против неприятелей наших останутся без умножения, пока обе высокие державы будут в мире. Сулейман-паша обещается дагестанцев в Ахалцих не призывать, находящихся там выслать и своими войсками Грузии никакого вреда не делать, наших подданных продавать и покупать в Ахалцихе не дозволят, с нашими неприятелями ни тайно, ни явно сношения не иметь и войск султанских на границах наших не содержать.
О чем вас сим письмом уведомляем».
Письмо это, конечно, не удовлетворяло Сулеймана, который хотел, чтобы Ираклий искал покровительства султана, и паша, отказавшись подписать заключенный договор, вернул обратно грузинских посланных. Сулейман писал, что если Ираклий «желает сделать доброе дело для своих подданных, то чтоб учредил порядок в своей стране и привел деревни в оборонительное положение, дабы, – говорил паша с иронией, – несколько наездников лезгинских не разорили всей Грузии. Я же удержать их не в силах, потому что они меня не слушают. Впрочем, что касается союза и дружбы между нами, то я не только стараться буду, дабы оного не лишиться, но буду всячески оказывать вам опыты моей дружбы».
«Мое намерение, – писал паша Ираклию в другом письме, – доставить вам прежнее ваше благополучное состояние, исходатайствовать вам от великого султана милости и почести, превосходнее тех, коими перед сим были вы удостоены, и утвердить между нами неразрывную дружбу и союз на таком основании, дабы и потомки наши могли оным наслаждаться.
Письмо ваше к визирю Азаму, привезенное сюда моим кегаем, хотя и не может понравиться ему, однако же, представляя оное, употребил я все возможное в вашу пользу, дабы вы получили желаемый вами ответ, а с ним следующие вам по справедливости от Высокой Порты милости… Учиненная, однако же, в сердце нашем рана до тех пор будет неизлечима, покуда находящийся в ней терн не будет совершенно исторгнут. И для того для точного уверения в преданности вашей великому султану пошлите ко двору двух ваших чиновников вместо аманатов и, посоветуя, с кем надлежит, пожалуйте нам решительный ответ… Таким образом окончим наши дела в самом скором времени. Да укрепит Бог неразрывный союз навсегда! Старайтесь только возвратить ваших сыновей из чужих стран, о чем вас искренне прошу. Сие послужит к вашему благополучию, и если вы мне почитаетесь братом, то не пренебрегайте сим полезным советом».
В средине декабря 1786 года Сулейман вновь прислал в Тифлис посланного со словесным предложением удалить русских из Грузии и вернуть своих детей (Мириана и Антония) из России, за что султан обяжется исполнить все желания Ираклия. Если же русские по-прежнему останутся в Грузии, то в качестве гарантии, что они не причинят никакого вреда турецким областям и царь не будет требовать увеличения их числа, прислал бы он в Ахалцих двух аманатов из лучших княжеских грузинских фамилий. За это Сулейман обещал не вредить Грузии, выслать всех лезгин из своих владений, возвратить пленных и принудить повиноваться царю отложившихся от него персидских ханов.
Обещание выслать лезгин из Ахалцихского пашалыка было очень важно для грузин. Они столько терпели от их грабежей и насилия, что Ираклий, желая положить конец разорению своих подданных, выдавал отцу Омар-хана Аварского по тысяче рублей в год, самому хану 6500 рублей и искал даже случая породниться с ним. Царь сговорил дочь хана за своего старшего сына Георгия, но брак не состоялся, и аварский хан по-прежнему совершал грабежи в Грузии. Впоследствии, наследуя отцу, Омар-хан также предлагал выдать свою сестру за царевича Вахтанга, получил за это подарки на две тысячи рублей, но потом отказался и, вторгаясь в пределы Грузии, грабил, жег и уводил в плен жителей. Понятно, что при таких отношениях высылка лезгин из главного их гнезда Ахалциха и личное расположение Сулеймана было весьма важно для Ираклия, и потому, сразу по приезде в Тифлис посланца паши, царь приказал собраться в Согореджо царевичу Георгию, католикосу и всем знатным особам. Прибыв туда же 18 декабря, Ираклий, посовещавшись с собравшимися, объявил полковнику Бурнашеву, что, по единодушному желанию и согласию всех чинов царства и народа, он намерен послать в Ахалцих требуемых Сулейманом аманатов и что к этому его вынуждает крайняя необходимость избавить их от разорения турок. Бурнашев заметил Ираклию, что по четвертому параграфу трактата он обязан обо всех своих действиях переговаривать с пограничными начальниками. Ираклий отвечал, что напишет генерал-поручику Потемкину, но, не дождавшись ответа, отправил в Ахалцих князей Николая Орбелиани и Теймураза Цицианова, чтобы они более точно узнали истинные намерения Сулеймана.
Такая торопливость и заискивание царя перед турками не могли не удивить П.С. Потемкина.
«Я поспешаю, – писал он, – отправлением обратно присланного ко мне от вашего высочества князя Зазу Салагаева и с ним ответ мой на письмо ваше, содержание которого видя, крайне скорблю, что совет вельмож ваших попускается на готовность выполнить требования Сулейман-паши Ахалцихского. По силе заключенного вами трактата с империей Всероссийскою четвертого артикула обязались вы торжественно советоваться с пограничным начальником во всяком сношении с окрестными владетелями и во всяком случае, когда от соседей посланцы будут присылаемы. Выполняя силу сего артикула, мой долг требует представить вашему высочеству и советовать, чтобы вы не отдавали Ахалцихскому паше аманатов, а при том прошу покорно рассмотреть все требования Сулейман-паши и цель всех его к вам отношений.
С самых тех пор, как начал он с вашим высочеством иметь переписку или переговоры, требования его состояли в следующем:
1. Обольщая разными мнимыми выгодами поколебать верность вашу к России и сделать царское лицо ваше вероломным.
2. Чтобы вывести войска российские из Грузии и, избавясь от грозных защитников Грузии, обнажить оную от обороны, ибо, если бы войска наши не были им грозны, не имел бы он надобности искать о выводе их из Грузии.
По сим двум главным требованиям не видя успеха, ныне предлагает он новые, не менее лукавые, хотя и не столь упорные, а именно:
3. Чтобы ваше высочество дали ему обязательство, дабы за учиненные им и по его замыслам и наущениям от лезгин царству грузинскому разорения уничтожить и не взыскивать. Сей самый артикул довольно ясен, что Сулейман-паша приемлет благовременно меры, обольстив вас мнимым добронамерением, остаться самому без ответа.
4. Сулейман-паша требует из князей грузинских двух аманатов. Трудно ли разобрать его и в сем случае подлог, который ищет он обратить на вред вам и царства грузинского.
5. Обещает паша присланные от Порты грамоты к азербайджанским ханам удержать и стремление их на Грузию остановить. Легко и здесь разобрать можете, что удержать оные Сулейман-паша не посмел бы, когда б от Порты оные велено было послать.
Высочайший ее величества двор не пренебрег интересов царства грузинского, и вся мнимая дружба Сулейман-паши приняла поворот свой едва ли не по тем требованиям, кои двор императорский настоял у Порты».
Ввиду усложнявшихся политических обстоятельств и неизбежного разрыва России с Турцией генерал-поручик Потемкин просил Ираклия не вступать в союзные отношения с пашой Ахалцихским и ни в каком случае не давать ему аманатов. Царь отвечал, что он отправил уже посланных в Ахалцих, постарается отделаться от выдачи аманатов, но страшится за последствия. Ираклию жаль было не воспользоваться хотя бы временным расположением паши, тем более что Россия и Турция не имели еще явного разрыва. «Что за важное дело, – спрашивал царь, – быть двум нашим аманатам в Ахалцихе? Коль же скоро нарушится мир между двумя государями, то тогда мы тех людей вывесть оттуда можем. А если б и остались они в их руках, весьма легко можно для службы и верности ее величеству их там оставить».
Тем временем Сулейман-паша старался изо всех сил примириться с Ираклием и добиться выдачи аманатов. Паша выслал за посланными конвой и принял их весьма ласково. Имея наказ выведать истинные намерения Сулеймана, князья Орбелиани и Цицианов не разубеждали пашу в намерении царя выдать аманатов, и Сулейман сообщил Порте о возможности отклонить Ираклия от союза с Россией. Из Константинополя тотчас же был отправлен с большими подарками капиджи-баша с поручением вместе с Сулейманом заключить договор с царем Ираклием.
Достичь этого было не так легко. Ираклий знал вероломство турецкого правительства, жестокость в обращении с христианскими подданными и, наконец, непрочность своего царствования, если перейдет под покровительство Турции. Царь знал, что Сулейман его непримиримый враг, и союзные отношения с ним не могут быть искренни. Если некоторые грузины и искали сближения с турками, то все они принадлежали к партии царицы Дарьи. Мечтая разделить Грузию между всеми сыновьями Ираклия, царица знала, что наследник, ее пасынок, царевич Георгий не допустит этого, тем более что русское правительство уже высказалось против подобного раздробления, чреватого междоусобицами. Царица Дарья имела многих приверженцев среди князей, наследственно пользовавшихся государственными должностями и опасавшихся потерять их при русском влиянии. Опираясь на довольно сильную партию и пользуясь огромным влиянием на Ираклия, Дарья не сумела, однако, достичь желаемых результатов, хотя и содействовала временному сближению своего мужа с Сулейманом.
Во второй половине февраля в Ахалцихе был получен фирман о скором разрыве с Россией и с уведомлением, что 52 000 турецких войск будут двинуты к Арпачаю. Назначив Сулеймана сераскиром, Порта требовала от него заготовки провианта и всего необходимого для войск. Сообщая об этом грузинским посланным, Сулейман уверял, что желает сохранить мирные отношения, и приглашал на свидание или самого Ираклия, или его старшего сына Георгия. «Пусть государи, – писал при этом Сулейман царице Дарье, – делают то, что они намерены; мы же должны стараться о пользе наших владений. Семь или восемь царей (?) имели прибежность к России, но без успеха. Теперь увидим, могу ли я пред другими сделать более пользы брату моему царю и его детям».
При содействии капиджи-баши и стараниях Сулеймана был заключен договор, по которому царь обязался выдать аманатов, а паша под клятвой обещал не предпринимать ничего против Грузии и выслать лезгин из своих владений. «Итак, мир совершенно утвержден, – писали посланные Ираклию, – и лезгины высланы».
Через несколько дней в Ахалцих прибыли представители ханов Шушинского, Хойского и Аварского. Они единогласно просили пашу не заключать никаких договоров с царем, который, по их словам, «имел четыре ноги, из коих три у него отняты, и он держится теперь только на одной». Сулейман не согласился исполнить их просьбу и писал Ираклию, что «заключенный между нами на крепком основании союз утверждает нелицемерное ваше к султану усердие, а ко мне братство и дружбу.
Теперь для уверения султана, что вы стоите на пути правды и справедливости, и для получения от него милостивого фирмана, нужно вам стараться отдалить от себя чужестранные войска и разломать сделанную дорогу, а после сего с другими государями не соединяться и к султану послать прошение, изъявляющее вашу искренность. Я заключаю, что таковой поступок не может быть вам не только вреден, но получите милостивый фирман и многие султанские благодеяния.
Посылаем к вам Ейваса, чтобы вы, не имея никакого сомнения, прислали ваше прошение, о чем и князья вам донесут».
Требование Сулеймана не соответствовало планам царя Ираклия, никогда не желавшего подчиняться Турции и искать ее покровительства. По совету полковника Бурнашева Ираклий отказался писать султану.