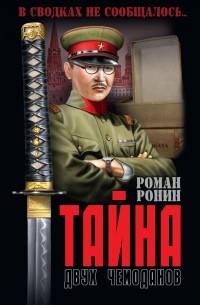Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 2. Рыба
Любовь Вагнер вышла из посольства Японии. Закрыла за собой калитку и кивнула на прощание постовому милиционеру. Медленно пошла в сторону бульвара. У памятника Тимирязеву она остановилась и долго стояла, не в силах решить, куда ей направиться. Несколько раз учительница выходила за памятник, вроде бы собираясь пойти вверх, к Пушкинской площади, но тут же поворачивала и спускалась обратно к монументу. Там она задумчиво смотрела на улицу Герцена, на двуглавых орлов на кремлевских башнях («Надо же, уже то время забылось почти, а орлы все парят. Никак у них руки не дотянутся. Коротки ручонки… Сволочи»), и зрачки ее красивых зеленых глаз сужались от ненависти. Она то и дело оглядывалась назад, трогала тонкими длинными пальцами прохладный постамент и словно собиралась с духом. Наконец, обреченно повесив голову, медленно пошла вниз, к Кремлю.
У Театра Революции под руководством Всеволода Мейерхольда Люба остановилась, надеясь посмотреть афиши: «Коллектив на гастролях». Жаль. Она вообще любила театр, а в этом играли неплохо, даже очень хорошо по нынешним временам. Если бы еще и другое название… Режиссером здесь служил известный на всю Москву Алексей Попов, и Люба частенько наведывалась сюда вместе с дочкой, чтобы отдохнуть и отвлечься на постановках признанного мэтра. Особенно нравилась ей «Ромео и Джульетта» с Астанговым и Бабановой. Глядя на замечательную игру любимых актеров, она всегда испытывала совершенно особое чувство – блаженного расслабления, превосходства и острой зависти сразу: «Актером быть хорошо. Особенно заслуженным. Играешь все время прекрасно – газеты о тебе пишут, поклонники с цветами у дверей, премии, приглашения в Кремль. Играешь так же стабильно плохо – никто внимания не обращает. Какая прелесть. Так даже лучше – райская жизнь». Люба смотрела спектакль и понимала, что ни Бабановой, ни великому Астангову до нее никогда не дорасти. Хорошо они играют, профессионально, замечательно. Но… не как она, Люба Вагнер. Стимулы другие. Да, все будет – зарплата, квартира, пайки. Ну, может быть, персональное авто со временем. А у нее – жизнь. Жизнь. Точнее, даже две жизни. Своя и дочери. Зрителей не в пример меньше, чем в зале самого плохого театра в провальный день. Зато какие! Каждый готов (и ждет этого, не скрывая!) пытать каленым железом за малейшую неточную интонацию, за каждый неправильный шаг. Оступишься – и не в оркестровую яму, не в совиный клюв суфлерской будки упадешь, а сразу на сковородку адскую и в печь. И самое главное – не одна, не одна.
Постояв напротив театра, Люба медленно перешла дорогу. Отошла от касс метров на десять, там продавали квас из бочки. Взяла стакан. Квас был теплый, но вкусный. Пах ржаным хлебом. До революции так пахло на кухне у поварихи Катюши в их квартире на Молчановке, так пахла вся усадьба на чистейшей речке Рожайке. Любонька тогда была совсем юная и все ждала, ждала с упоением, когда приедет он – красавец, Генерального штаба подполковник Вагнер. Человек с немецкой фамилией и совершенно русским лицом – широкоскулый, с носом картошкой и веснушками. А плечи! Косая сажень – это про него. Взрослый, почти на двадцать лет старше ее, он никогда не казался ей старым. Так заразительно, весело, как мальчишка, смеялся от счастья, когда видел ее. Всегда смеялся, и это не казалось ей глупым. И сама она хохотала и бежала ему навстречу, а старая строгая гувернантка фрау Грета, учившая когда-то и его – Германа, когда он был маленьким красивым мальчиком, сдержанно ругалась и по привычке грозила пожаловаться «фатеру» на свою давно выросшую ученицу…
Люба внезапно разозлилась и раздраженно вернула стакан противной тетке в грязном переднике, но дальше пошла так же не спеша. Несмотря на то что уже спускался вечер, жара только-только начала спадать. Выпитый квас забурлил в порах, выступая липким потом на коже. Пришлось остановиться, чтобы переждать эту неприятность. Любовь была рада этому – она никак не могла найти предлог не идти туда, куда не могла не идти. Теперь просто необходимо хоть пару минут постоять в тени огромного старого ясеня, собраться с духом, пока кожа не высохнет и не станет снова бархатистой, как в юности, когда можно было беззаботно хохотать. Как тогда, на Рожайке. Сколько лет прошло. Жизнь прошла… Но, если бы не пропавшая навсегда беззаботность во взгляде и появившиеся жесткие складочки у рта, можно было бы сказать, что Люба совсем не изменилась с тех пор. Выглядела она и сейчас прекрасно. Даже сегодня, несмотря на то что шла с работы, куда полагалось прибывать в длинной юбке, обязательно в чулках и блузе с воротом. Она всегда подбирала себе одежду так, чтобы подчеркнуть еще и не думавшую увядать красоту. Потерявшая слишком многое из того, что было ей дорого, пережившая две войны, родившая ребенка в разгар ужасных событий, эта тридцатипятилетняя женщина сумела не только дочь поставить на ноги, но и полностью сохранить свою внешнюю привлекательность, подчеркнутую заграничными вещами: японскими чулками, немецкими туфельками, французскими духами, японским же шелком блузы – и затейницей-портнихой Анной Ивановной. Главным в этом наборе, конечно, были деньги. За ними и надо было идти в этот богопротивный дом с вечным запахом рыбы.
Миновав консерваторию, Любовь сразу же уловила его – еще только накатывавший в теплом летнем воздухе запах застоявшейся, несвежей воды, ила и тухлой рыбы. «Господи, как же они ее в такую жару продают?» Люба быстро выдернула из сумочки надушенный платочек (передал из Дрездена дальний родственник дядя Федя: «Философ – выслали, повезло же человеку!»), прибавила шагу и повернула за угол. Подъезд. Навстречу открылась дверь, и вышел высокий человек с худым лицом, в черном костюме, с пустым погрохатывающим бидоном в руке. Испуганно глянул на Любу, успокоился и, слегка поклонившись, отправился в сторону Воздвиженки. «Хорошо, хоть не с пустым ведром», – подумала она, ступая в полумрак коридора и поворачивая к деревянной лестнице на второй этаж. Остановилась у квартиры номер семь. Медленно протянула руку к звонку. На двери и под звонком не было обычных для Москвы указаний, кому из жильцов и сколько раз надо звонить. Жилец здесь был только один, несмотря на то что весь дом был уплотнен еще в Гражданскую. На двери сохранилась медная табличка с уже полустертыми буквами «Эбергардт Иван Федорович, доцент юриспруденции». Едва пальцы Любы коснулись звонка, дверь распахнулась сама.
На пороге стоял невысокий человек лет сорока с хвостиком с неухоженной французской бородкой и уже оформившимся небольшим брюшком под новеньким френчем. Галифе и скрипящие сапоги дополняли его костюм, а пухлые, плохо выбритые щеки, жидкая шевелюра и пристальный взгляд черных глаз над тонким хрящеватым носом делали его похожим и в самом деле на какого-то юриста среднего ранга, каких много прибилось нынче к московским предприятиям в качестве юрисконсультов. Впрочем, толстые пальцы с длинными грязными ногтями не давали полностью согласиться с таким предположением. Человек во френче взял Любу, все еще не убиравшую руку от звонка, за запястье, потянул в квартиру.
– Здравствуйте, Дмитрий Петрович.
– Здравствуй, Любушка, душенька. Что опять так официально?
Любовь инстинктивно дернула руку на себя, только сейчас заметив, что в пальцах все еще зажат платок. Освободившись от «юрисконсульта», недовольно хмыкнувшего и нахмурившего густые черные брови, вошла в квартиру. Мебель здесь была подобрана самым причудливым образом: с простенькими венскими стульями ревельской фабрики соседствовал роскошный присутственный стол о две тумбы, стоявший углом к прекрасной кровати невообразимых размеров, со сломанными, впрочем, стойками для балдахина, заполнявшей почти всю комнату. На столе не было письменных приборов, не лежало ни одного листка писчей бумаги, но стояла открытая бутылка красного грузинского вина, на развернутой промокшей обертке высилась гора винограда, и рядом, на обрывке газеты, разложенном рядом с пепельницей, – грубо нарубленные куски колбасы. Но запах рыбы затмевал все это.
– Брезгуете значит, гражданка Вагнер? – «Юрисконсульт» аккуратно закрыл дверь и с презрением покосился в спину женщине, одновременно прикладывая ухо к двери и прислушиваясь. В коридоре было тихо. На втором этаже дома не осталось ни одной жилой квартиры. Руководство НКВД чрезвычайно обрадовалось, когда сотрудники хозяйственного управления смогли найти подъезд малонаселенного дома, в котором жильцы одного этажа оказались сплошь геологами и строителями. Кто камешки ищет загадочные на Мурмане, кто Магнитку возводит, а кто и просто не живет на белом свете или изъят из обжитых стен для срочного строительства очередного канала – дом почти все время стоит пустой. Под конспиративные цели взяли квартиру недавно. Бывший хозяин как раз был привлечен по «Кремлевскому делу», очень вовремя. На днях он получил приговор – не самый строгий, так как не велика шишка – 10 лет на тех самых каналах, и теперь здесь оборудовали место для тайных встреч. В квартире, правда, почти не было мебели. Хозяин предпочитал жить на даче, которая тоже теперь отошла в собственность органов, но «меблишка – это не проблема», – оптимистично заметил сотрудник комендатуры, роясь в ордерах на вещи, конфискованные в других квартирах. Старый шатающийся стол и скрипучую кровать выкинули, а на их место поставили кое-что из обстановки жилищ других участников процесса, тех, кому повезло меньше и кому мебель не понадобится уже никогда.
О кровати из карельской березы, с мягчайшим матрасом, Дмитрий Петрович Заманилов позаботился лично. О его слабости к хорошим большим кроватям знали на Лубянке, но «юрисконсульт» был не единственным таким любителем удобного отдыха. От остальных поклонников дорогих лежбищ его отличало только то, что он позволял себе даже бравировать своей страстью – неслучайно еще при поступлении на службу в ГПУ в 1923 году выбрал себе псевдоним Заманилов. До этого времени сын витебского аптекаря Давид Пинхасович Манилович, дважды в царское время судимый за кражи, но избегавший по малолетству серьезного наказания, действительно имел некоторое отношение к тайной службе. В Гражданскую он, за бешеные деньги выкупив белый билет (пришлось окончательно пустить папашу по миру и долго изображать не шедшую к его фигуре чахотку), устроился конюхом в можайское управление ЧК. Городок маленький, место тихое, незаметное – лучше и не придумаешь, чтобы пережить смутные годы. От Москвы вроде и недалеко, а вроде и не близко. Нужно позарез – можно добраться, а не надо – так и сиди себе мышкой в норке, не высовывайся. А как гроза прошла, оказалось, что Давид не просто конюх, а ветеран службы. Чекисты, кто выжил, кого бандиты не подстрелили, после войны отправились по спецнабору в части особого назначения – ЧОНы, крестьян успокаивать, которых продналогом придавили так, что те схватились за обрезы. В результате центр, районные и областные управления остались без кадров. Партийный и комсомольский наборы помогли, конечно, но ведь им кто-то же должен был передать опыт борьбы с контрреволюцией на местах. Вот и оказался бывший конюх Данька оперуполномоченным Дмитрием Петровичем Заманиловым (смешно вспомнить – заманивал-то тогда на сеновал у конюшни, и кого!), кадровым чекистом аж с 1918 года! А теперь… Теперь, если кто вспомнит, тому не глаз, тому мозг вон. На то у товарища Заманилова маузер есть с серебряной колодкой «За беспощадную борьбу с контрреволюцией». Но никто и не вспомнит. У товарища Заманилова теперь особо важная и секретная работа.
– Что замолчала, Вагнер? Или лучше «агент Ирис»?
Женщина повернулась к нему. Она была абсолютно спокойна, только зеленые глаза стали холодными и колючими – зрачки сузились в них до булавочных головок.
– Что вы хотите, Дмитрий Петрович? Рапорт о том, как прошло очередное занятие с японцами?
– На черта мне твои занятия, Ирис! Рассказывай, что с Накаямой. – Рассерженный Заманилов сел за стол, взялся за бутылку, но наливать не стал. Достал из-под стола портфель. В нем оказалась еще одна бутылка, на этот раз коньяка. Налил из нее в большой стакан, сделал глоток. Люба села на стул в самом дальнем от стола углу комнаты. Без всяких эмоций посмотрела на чекиста.
– Скажите, Заманилов… Ненавижу… Что же за фамилия у вас такая идиотская…
– Но-но!
– Ну хорошо… Скажите, Заманилов, кто додумался отправить вас работать с японцами?
– В каком смысле?
– В смысле против японцев. Кто? Вы же ничегошеньки в этом не смыслите!
– Вы много смыслите, Любовь Петровна.
– Может быть, и не очень много. Но мы оба знаем, что есть человек, который в этом разбирается как никто, а всё-таки и я почти десять лет с ними работаю.
– Да уж, тяжелый труд японцев ублажать, – криво ухмыльнулся Заманилов и допил остатки коньяка в стакане.
– Прекратите. То, что вы считаете меня проституткой, говорит только о вашем личном уровне интеллектуального развития. Как агент я в любом случае смыслю в работе против японцев побольше вашего. Оттого и недоумеваю, кому могло прийти в голову назначить сюда такого человека, как вы.
– Это какого же такого человека? А?
– Как вы. Ладно. Разговор бесполезен, я вижу. Что вас конкретно интересует?
– Вы мне это прекратите, гражданка Ирис, то есть, как вас там, Вагнер! – Заманилов встал из-за стола. – ты мне это, Любаня, прекрати! Я у тебя не на допросе! И это я буду вопросы задавать. Я! А не ты… Ты будешь на них отвечать. Как миленькая. Ты сама знаешь, у нас, в случае чего, с тобой разговор короткий будет. За себя не боишься, черт с тобой. Ты про дочку подумай.
Люба с ненавистью посмотрела на нависшего над ней горою «юрисконсульта».
– И так все время про нее думаю. Если бы не Марта…
– Вот и молодец. И не пори чепухи. Благодари своего белогвардейского бога, что я добрый такой да отходчивый.
Заманилов вернулся к столу, но сел уже не в кресло, а на край кровати, пододвинул к себе бутылку с коньком.
– Пей. Ты Накаяму видела сегодня?
– Видела. – Люба послушно встала, далеко, по периметру комнаты, обошла Заманилова, села в кресло. Тот подхватился, кряхтя перегнулся через животик, налил ей вина в стакан.
– Ну?
– Господи, что же так рыбой-то воняет? Стошнить может…
– Ну!
– Он был занят. Во время урока с Курихарой зашел, поздоровался. Спросил, понравилось ли на даче.
– Понравилось?
– Понравилось. Сказал, что через пару недель пригласит снова.
– Ну наконец-то… А то этот косорылый прям главный спец у нас теперь, ходит морду воротит. Нет, всё, товарищ, теперь старший оперуполномоченный Заманилов покажет кое-кому, что и без ваших японских штучек можно с японцами бороться!
Люба не сразу поняла, о ком речь, а когда до нее дошел смысл сказанного, она расхохоталась нервным, дерганым смехом и, только отпив вина, смогла успокоиться.
– Простите, Заманилов, но вы очень смешной. Как вы хотите, как вы выразились, показать свое умение в этом деле, которое, повторюсь, явно вам не по плечу?
– Не твое дело! И не тебе решать, что мне плечу, а что по… Твоя задача была установить близкий контакт с Накаямой. Ты это сделала?
– Ну, не такой близкий, как с вами, Дмитрий Петрович. К счастью.
– Ой, ну хватит… Хватит разыгрывать из себя дешевую шлюху, Вагнер. Я ваше дело читал, биографию знаю. И про ваше дворянское происхождение, и про мужа, заклятого врага советской власти, – все это мне достоверным образом известно. И про то, как вы ради мужа согласились работать на нас.
– А вы его расстреляли, – внезапно потускневшим голосом ответила Вагнер.
– Это не мы его расстреляли, а он сам! Не пожелав признать победу советской власти, устроил заговор, белогвардейская шкура. И, между прочим, никто его не трогал. Сидел бы себе дальше, тихо-мирно у нас на Лубянке, пока его женушка немчуру обслуживала, – хохотнул Заманилов и налил себе коньяку, а совсем уже обмякшей Любе вина.
– Ну хорошо, не обслуживала, а как вы там… учительница русского языка. На кой черт им русский язык? Как специально придумали, чтобы мы могли свою агентуру к ним подводить.
– А вы его расстреляли…
– Да хватит уже. Вам же рассказывали: ваш муж, бывший генерал Вагнер, встал во главе контрреволюционного заговора во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке. Пытался поднять мятеж во время прогулки и был убит.
– Мятеж на прогулке… Какой ужас.
– Прекратите. Мне надоели ваши истерики. Меня предупреждали, что вы тяжелый кадр в работе, но я с вами сюсюкать не буду. Мне нужен результат. Ваш муж был убит как враг, и все на этом. Если вы не хотите с нами работать – воля ваша. Только вы знаете прекрасно, что теперь поздно. Если вы не с нами, то против нас. Хотите повторить судьбу своего мужа? Могу устроить. Только подумайте о своей дочке. Семнадцатилетняя красотка. Наслышан! Что с ней будет, подумали? Какой судьбы для нее хотите? Что ее ждет? Не знаешь? Я тебе отвечу! В лучшем случае, будет учительницей, твое место займет. Это если меня уговорить сможет, – Заманилов осклабился, – а нет, так в лагерь или в этот, как его… детприемник!
– Что это? – с ужасом отшатнулась Люба.
– Не знаешь? Ну, ты как не в нашей стране живешь, – усмехнулся Заманилов, – Меня на прошлой неделе откомандировали в комиссию по проверке спецдетдома имени товарища Дзержинского. Он сначала наш был, чекистский, а теперь не знают, куда его деть, то ли в наркомздрав, то ли в ОНО передать. Детишки там содержатся. От маленьких совсем до таких, как твоя Марта – взросленьких, в самом соку. Врагов-то все больше вскрываем, а выкормышей пока не сажаем. Пока… Так вот там на четыре с половиной сотни народа сорок человек здоровых. У остальных трахома, туберкулез и сифилис – у всех! Посуды нет. Второе и третье хлебают из мисок после первого не помытых. А чуть не так что – воспитатели до гола раздевают и в карцер. Про изнасилования, драки и извращения всякие я уж не говорю…
– Прекратите! Прекратите!!!
Любовь Вагнер не выдержала и зарыдала, затряслась, упав головой на скрещенные на столе руки. Заманилов замолчал, спокойно глядя на нее. Встал, выплеснул из ее стакана остатки красного вина, налил много – на треть – коньяка. Обошел стол, нежно положил руку на плечо женщине. Чуть потянул к себе и поднес к ее губам стакан коньяка. Люба выпила сразу, залпом и, закрыв глаза, слепо зашарила по столу в поисках закуски. Заманилов вложил ей в руку кусок колбасы. Она откусила немного и простонала с ненавистью:
– Рыба… Воняет рыбой. Вы все, все воняете тухлой рыбой.
Заманилов ухмыльнулся и помог ей встать. Довел до кровати. Женщина упала на нее ничком, а он принялся расстегивать френч.
– Ничего, принюхаешься. Я принюхался, и ты принюхаешься. Ты мне лучше расскажи-ка, милая, о господине Накаяме. Какие у него увлечения, что любит, а что нет, почему семья к нему не приезжает, и, главное, на чем эту важную птичку нам можно подцепить…
Час спустя, уже оставшись один в квартире, Заманилов дописывал рапорт руководству.
«…агент ИРИС показала, что военный атташе НАКАЯМА не испытывает слабости к женскому полу, не высказывался о недостатке денежных средств, а также не был замечен сильно или в меру пьяным. По всей вероятности, Накаяма является матерым разведчиком, разоблачение которого и дальнейшая вербовка будут связаны с большими трудностями».
Заманилов задумался на минуту, встал, подошел к кровати. Постель была смята, одна из подушек валялась на полу. Он поднял ее и бросил на кровать. Увидел мокрые пятна, брезгливо поморщился. На полу же валялась какая-то белая тряпка. Поднял и ее, поднес к лицу. Это оказался кружевной платочек агента Ирис. Тонкий аромат французских духов вскружил голову, но стоило убрать нежную ткань от лица, как в нос снова шибануло запахом тухлой рыбы.
«А чтоб вас там, сволочи! Тухлятиной торгуют. В самом деле блевануть можно. Как только народ живет в этом доме. Надо будет разобраться потом».
Чекист аккуратно расправил платочек и положил его на стол, рядом с бутылками. Сел, вернулся к бумаге.
«…большими трудностями. Прошу вашего разрешения на попытку привлечь подполковника НАКАЯМА к нарушению советских законов по части контрабанды путем выманивания у него редких и дорогих мануфактурных материалов, импортной одежды, отсутствующих в государственной торговле и магазинах кооперации. После вашего утверждения и детальной проработки вопроса операцию планирую поручить агенту ИРИС, к которой, кажется, НАКАЯМА не вполне равнодушен».
Заманилов подписал рапорт, поставил число и аккуратно убрал бумагу в картонную папку. Бутылку с остатками красного, тщательно закупорив скрученной газетой, убрал в кожаный портфель. Туда же положил и папку. Посмотрел на свет бутылку от коньяка. Вылил себе в рот последние капли, оторвал и съел пару виноградин. Подумав, сжевал последний кусок колбасы. Встал, подошел к окну и вытер руки о штору.
«Надо будет прислать человечка, чтобы прибрался тут. А то в пятницу с агентом ”Рыбкой” встречаться. Тьфу, ты, черт! Опять рыба!»
Заманилов нахмурился, быстро собрал все вещи, напялил матерчатую фуражку без звездочки, утер ладонью пот с лица, быстро вышел и закрыл дверь на ключ.
На первом этаже не стал выходить на улицу, а наоборот, свернул в коридор, где, как он знал, на стене висел телефонный аппарат, а под ним на подставке лежал справочник абонентов города Москвы и привязанный бечевкой огрызок карандаша.
Найдя в книге нужный номер, Заманилов набрал его и, дождавшись ответа, решительно заговорил:
– Городская торгинспекция? Товарищ, в магазине «Рыба» на Герцена, 11, продают отвратительно пахнущую тухлятину! Да, товарищ! Что значит, откуда я взял? Я не специалист! Знаете что, товарищ, вам лучше не знать, в чем я специалист! Да! И имейте в виду, в прокуратуру я уже позвонил! Так что в ваших же интересах разобраться с этим быстрее, чем приедут другие товарищи! Да, вот так вот! Не за что! – и так же решительно трубку повесил. Оглянулся. Из-за приоткрытой двери соседней квартиры выглядывала испуганная симпатичная женщина, явно непролетарского происхождения, в скромном зеленом платье с белым воротничком. Увидев, что ее заметили, женщина прошептала «спасибо» и быстро закрыла дверь.
– Пожалуйста! – рявкнул Заманилов и рванул на себя входную дверь, сбив со стены коридора висевший там чей-то велосипед. На Москву наконец-то спустился вечер.