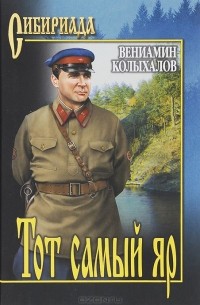Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
3
После обнаружения отточенного топора по зоне прокатился великий шмон. При обыске услужливый Кувалда перетряс на нарах завшивленное, заблошенное тряпьё. По прежним отсидкам он знал все потайные уголочки родственной братии, умеющей божиться: век воли не видать.
Староверца Власа обшмонал особо тщательно. Нашарил иконку святого Георгия Победоносца, гордо протянул Горелову на заскорузлой ладони бронзовую улику.
– Верни! – тихо приказал лейтенант.
– Можно заточить любой край – брюхо вспороть.
– Верни! – в голосе гэбиста зазвенела нотка злости.
К мастеру кузнечных дел Никодиму Селивёрстову надзиратель подошёл с рысьей настороженностью.
– Слон, выкладывай всё запрещённое.
– Свобода моя под запретом.
– Не крути языком. Тебе топор принесли?
– Посмотри на мои руки. Зачем в них топор вкладывать?
– Верняком сказанул. Такие булыжники впервые вижу.
На втором ярусе нар сидел счетовод Покровский, гонял на клочке бумаги крупную цифирь. Недоумевал – на чём мог подловить его фин-ушляк из «Рыбтреста». Подделали мою подпись… запустили в бухгалтерский поток подложный отчёт… Вслушивался в разговор кузнеца и палача. Зря подбивал Тимура оставить топор. Влас из рогатки не пульнёт в человека… Обрадовался возвращению иконки: борода осветилась.
Через три дня в барак втолкнули избитого до посинения Тимура. Глаза, рот, щёки, подбородок представляли сплошной багровый кровоподтёк.
Подошел взволнованный отец, бережно уложил сына на предоставленное нарное местечко.
– За что они так, Тимурка?!
Из распухшего рта выдавилось – тпр…
– Топор?
– Гаа.
– Ага, значит, за него… Кто-то затырил инструмент, моей кровинке приходится терпеть надругательство.
Знал Никодим о тайне. Знал и о том, что уши и глаза бедолаг Ярзоны можно использовать для доносов… Надо осторожничать, ни с кем не заводить доверительных отношений. О топоре знают четыре человека. На Власа и счетовода можно надеяться.
Изуродованное лицо Тимура отец протёр смоченной тряпицей. Сейчас бы помогли травница Фунтиха и Соломонида. Подумал, перекрестился. Боже упаси попадать им в дремучие стены… Вишь как судьбинушка крутит: сынок отстроил тюремку, отец обрешёчил её… Оба обживаем хоромы.
Вышкарь Натан съездил в деревню, обсказал Соломониде положение. Привёз мази, лекарства, хлеба, сала. Две пары шерстяных носков. Передавая Никодиму свёрток, записку от жены, шепнул:
– Держи всё в секрете.
Узнав от Натана страшную весть, Прасковья Саиспаева набросилась на него с кулаками:
– Гад! Ты упёк его!.. Больше некому…
– Здоровье, нервы побереги. На сносях ведь.
– Совесть мучает… посылочки передаёшь…
– Пойми, землячка, я маленький человек в органах…
– Маленький да удаленький, – не унималась засольщица. – Соперника засадил… Все вы там – зверьё!
– Разберутся – отпустят… ну, пробуксовала где-то машина дознания.
– Чтоб она сгорела эта машина!..
Прасковья родила сына. Лекарица и повитуха разговористая Фунтиха с ухмылкой подняла сибирячка под потолок: светлая капель окропила морщинистое лицо.
– Вот сыкун! – ликовала старушка, с утра пропустившая стакан рябиновой настойки. – Кило на четыре потянет здоровячок.
Дыхание зашлось у Соломониды, когда увидела внука под лиственничной матицей.
– Чего над дитём изгаляешься? Вишь, описался от натуги.
– Не от страха – от радости появления на свет божий. Порода крепкая: в деда-кузнеца… Разливай рябиновку. Гулять будем.
Сыкунчика в честь деда назвали Никодимом. Обмазали правую ладошку смоченной сажей, приложили к тетрадному листу. Получился заметный оттиск…
Толстуха Соломонида вприщур посмотрела на внучонка. По тугим щекам струились созревшие слёзы.
– Кончай болото разводить, – успокоила Фунтиха. – Вернутся твои богатыри.
– Тревожно за них… два клочка из сердца вырвали.
Счастливая Прасковья лежала поверх лоскутного одеяла, нежно поглаживая лобик, щёки бутузика. Беда и радость витали над изголовьем. Сгустилось над молодой матерью роковое время, зависло серым ненастьем, кудлатыми поселковыми дымами. Мечталось: вместе с Тимуром разделят восторг появления любимого человечка… Копошухой был в животе, волтузил ножками… куда бежать собирался, пузанчик?.. Куда убежишь, мальчонок, от жизни, опаскуденной комендатурой. От неё напасти.
Вслушиваясь в бульканье винца, воскликнула:
– Единоличницы! Мне-то поднесите.
– Молоко закиснет, – рассмеялась Фунтиха, подавая граненый стаканчик. – Никодимчик, тебе пока нельзя. Ишь выцеливает глазёнками напиточек скусный.
Повитуха окунула кончик пальца в наливку, мазнула младенца по губам.
– Со крестом! С почином!
Очередной рапорт Горелова комендант подписал охотно.
– Завидую тебе, лейтенант: свободным соколом взметнёшься… На нас сваливаешь собачью службу… С трудоустройством помочь?
– Спасибо. В школу принимают. Буду вести занятия по боевой подготовке.
– Дело.
По привычке Перхоть взъерошил шевелюру. Офицер отступил от стола на шаг, боясь перепархивания обильной мошкары.
«Неужели кончился ад? Выйду из порочных и прочных стен».
С отчётливостью страшных слов встала перед глазами выдержка из стенограммы оперативного совещания. Пришла разнарядка НКВД по Западно-Сибирскому краю: «Вы должны посадить по лимиту 28 июля 1937 года 11 000 человек. Ну, посадите 12 000, можно и 13 000 и даже 15 000…Можно даже посадить по первой категории и 20 тысяч…»
Вот такая лавинообразная цифирь довела лейтенанта госбезопасности до кипения мыслей и крови. Первая категория – расстрельная. Чем не заготовка не пушечного – наганного мяса?!
Все было предусмотрено в той смертельной документине, даже сокрытие преступлений. «…Если будет расстрел в лесу, нужно, чтобы заранее срезали дёрн… потом этим дёрном покрыть это место… нужна всяческая конспирация мест, где приговоры приведены в исполнение…»
Цепкой памятью отличался особист Горелов. Прочитанные в стенограмме наставления пылали в мозгу, прожигали раскаленным железом: «Аппарат никоим образом не должен знать ни места приведения приговоров, ни количества, над которым приведены приговоры в исполнение… ничего не должен знать абсолютно потому, что наш собственный аппарат может стать распространителем этих сведений…»
«В Ярзоне, – рассуждал освобожденный Горелов, – дёрн не надо снимать. Трупы уходят в песчаную бездну по лимиту злодеяния, по кровавой разнарядке „совершенно секретных“ преступлений».
После ухода строптивого офицера комендант довольно потёр руки.
– Слава Богу – избавился от слюнтяя… даже не запасной игрок органов… Команде НКВД такое вычитание не грозит бедой… Скоро контрики на убыль пойдут. Расплодились змеёныши – до гадюк доросли.
Рассуждает вслух Перхоть, в тину мыслей погружается. Спущенный недавно расстрельный лимит поверг сперва в явное замешательство. Придётся в сутки чикать дюжины по две-три. Яр большой – песочку хватит. Сама природа на выручку пришла. Надо узнать – сколько осталось хлорной извести…
Голова чесалась во весь волосяной огород. Наедине главком особистов давал полную волюшку пальцам. С ожесточением скрёб зудкую кожу.
– Напасть! Просто напасть!
Вчера ярый чикист Перебийнос огорошил новостью: пуля срикошетила от черепа эсера. Просвистела, в песок зарылась. Гранитный затылок оказался у смертника. Стрелок предложил изменить угол атаки – по вискам свинец разливать.
– Дайте добро…
– Даю. Херачьте по вискам!
– Есть возле ушей удобные ложбинки – от них до мозгов самый короткий путь…
Коменданту понравилась рационализация услужливого чикиста. «Вот в таких верных исполнителях органы нуждаются. Толковый служака, уважительный… Недавно нельму малосольную удружил… Не пора ли парня к награде представить…»
– Ты что кричишь во время выстрела?
– Разное… Вот тебе, сука!.. Получай, контра!.. Отбунтарил, гад!
– Нельзя так грубо, сынок! Политграмота чему учит? Палачам революции надо быть вежливыми. Отныне перед роковой секундой четким комсомольским голосом произноси:
– ИМЕНЕМ НКВД!.. Буквы, как пули, крепкие. Они – подспорье свинцу.
До недавнего времени сильно теснились на жердяных нарах приговорённые к расстрелу. Лежали впритык, не зная ни о степени своей вины, ни о роковом исходном часе судьбы.
Однажды смертники проснулись буранным утром, не почувствовав тесноты. В некоторых местах нары оказались пустыми, зияли пугающим простором. Камеры, где помещались особо опасные для страны Советов заговорщики, тоже поредели.
Отовсюду наползал холод жути. Чтобы меньше плодились одёжные твари, бараки протапливались плохо. Иней на окнах лежал многослойно. Даже решётки покрывались бахромчатой изморозью. Прутики солнечных лучей не давали тепла. Не вселяли в обречённых даже тютельку надежды.
Кузнец старался гасить взгляд. Но глаза всё равно примагничивались к решёткам. Там, за квадратами зонных окон летала свобода, кипела сносная колпашинская жизнь.
Лицо избитого на допросе сына отошло от опухлости, но было по-прежнему синё, ошрамлено подживающими рубцами. Весть о малыше появилась в бараке крылатой радостью. Забылись на время: унижение, боль, отчаяние, раздирающая душу тоска. Никодим сцепил пальцы-штыри, прижал руки к груди, поскуливая от прочитанного письма, обозрения сажного оттиска крошечной ладошки.
– Гляди, Тимурка, какая лапа у парня. Крепью в деда пойдёт.
Целуя распухшими губами чёрные тени пальчиков, Тимур умильно глядел на их лучевой разбег.
Несмотря на изнурительный допрос, исколоченное киянкой тело отозвалось жгучим желанием тесной встречи с Праской. В паху растеклась приятная истома. С появлением на белый сибирский свет сыночка молодой отец почувствовал сильный прилив энергии сопротивления. Куда сунешься, кого пришибёшь даже таким внушительным батиным кулачищем… Как мог отыскать Кувалда упрятанный под угол барака топор? Знать, имела ищейка нюх на сталь. Может, подсмотрел зорким воровским взглядом, когда прятал грозное оружие мести… Эх, Влас старозаветный! Не раскроить тебе черепок Тюремной Харе.
Обескураженный Натан беспрекословно выполнял опасную роль рассыльного.
Чувство вины тянуло якорем, не позволяя лёгкому плаванью мыслей. Тяготило паскудство службы, вся кишащая обстановка Ярзоны. Если бы не светлые стихи Серёжи, задал бы шее кожаный вопросик. Но петлёй, похожей на знак вопроса, не ответишь на главный пункт существования: зачем? Зачем оказался в ненужное время в ненужном месте? Зачем хлестал свинцом по черепам бедолаг… Кто подтолкнул к тошнотворной службе? Наградил изматывающей бессонницей? Неотвязными ночными кошмарами? Кулак из песка вызывающе грозил, раскачивался перед глазами с мстительной силой.
Пробовал Натан неделю-другую обходиться без самогонки, водки. Думал: белые градусы нагоняют жуть, подтачивают нервы жуками-короедами. Видения всё равно не отлучались надолго, пасли травмированную душу, терзали психику…
Все мы, все мы в этом мире тленны…
Конечно все, Есенин. Никому не выпадет фарт на два века бытия. Но что делать с тленом при жизни? Он разъедает сердце, отравляет кровь, приводит в ералаш когда-то крепкое сознание… Родной поэт земли Рязанской, ты не дал мне ответа на заковыристый вопрос существования. В твою заоблачную судьбу вмешались отъявленные бесовские силы, замаскированные под чекистов, партийных служек, зацикленных на интернационале, бредовой идее мирового братства. Под коммунистическую сурдинку лились реки народной крови. Дьяволизм не унимался. Требовал новых жертв во имя… во имя всеобщей беды, разорения жилищ, опустошения душ.
Пытался Натан найти ответ у Маркса, садился «понюхать премудрость скучных строк». Испытал ломучую головную боль, добираясь сквозь непролазные дебри умозаключений к ясной сути, но её не было. На каждой странице «Капитала» словно лиса набегала. Запутала следы-строчки, оцепила здравый смысл, который мог открыться ворам-банкирам, наживалам-заводчикам, фабрикантам, желающим выбить любыми путями максимальную прибыль. Быстро уяснил одно: капиталисты – угнетатели. Марксовское пособие было им на руку. Даже вооруженный экономическими познаниями рабочий класс оставался бессилен что-то изменить в изнурительной судьбе всемирных ишаков.
Насилие, творимое под колпаком комендатуры, на смертельном полигоне Ярзоны, хорошо вписывалось не в диктатуру пролетариата – в защиту буржуев, ждущих поставки рабов на невольничьи рынки труда.
Вышкарь Натан Воробьёв с макушки Обского яра обозревал текущее время, ад событий. Взрослел, набирался запоздалой мудрости сибиряка. Теперь он видел не пятно на хромовом сапоге коменданта – всю кухню и тайную стряпню служак Ярзоны. Кровь безвинного народа запеклась на опозоренных мундирах особистов.
Перед впечатлительным парнем раздался вширь и вдаль горизонт унижения, беспредельщина стаи с вожаком НКВД. «Распни народ, распни!» – летел вой из Москвы. И стая терзала…
На землях Руси лютовал враг, замаскированный под органы внутренних дел. Им вменялось сломить сопротивление недобитков всех мастей – от русских и латышей до поляков и мордвы. Вылавливали. Вытаскивали из подпола и подполий. Хватали на фабриках, смолокуренных заводиках. Выдёргивали с кафедр институтов, университетов.
«Террор! Только террор!» – выл вожак стаи. И клацали зубы агонизирующих приспешников.
Ярзона набирала лютость.
Близость места, где смертельный исход одолевал жизнь, притягивала стаи голодных собак. Они кучковались за обширной зоной, по-волчьи выли не на Луну – на околюченную проволокой ограду, на сторожевые вышки с вертухаями. Псов отлавливала загонным способом хозобслуга, передавала на съедение голодной братии спецпереселенцев. Вдоль береговой кромки крутояра дымились их наспех отстроенные хижины. Дымы вырывались из нор-землянок, слоились над потемневшими снегами.
Собачатина была желанным приварком в скудном рационе для людей принудительного переселения.
Бродячих собак вокруг Ярзоны не уменьшалось. Они прибегали из соседних деревень, заимок. Кого не сумели порвать в дороге отощалые волки – попадали сперва в обмётные сети ловцов псин, потом на огонь любителей жареного мяска: деликатес пользовался особым спросом у туберкулёзников.
С вышки Натану хорошо виднелись костры, разбросанные земными созвездиями по береговым снегам. От занудного воя псов на нутро накатывались муторные волны. Затыкал уши. Скорбные звуки умного зверья проникали в мозг… Поэт «…братьев наших меньших никогда не бил по голове». Кто-то предлагал отстреливать с вышек мастеров панихиды. Отказались от затеи. Нельзя пугать колпашинских мирян лишней огнестрельщиной. Да и патроны надо беречь для зачётных нужд.
Недолго пустовали ярусы зонных нар. Вскоре нагнали очередников.
Любил Никодим спать на спине. Пришлось снова переходить на боковое довольствие, втискиваться между тел.
Барачная теснота, озлобление, поруганное право на свободу угнетали. За что попал в разряд каторжника, не знающего за собой никакой провинки?
Поймали несколько беглецов-кулаков. Оставили места ссылки, возжелали волюшки. В назидание другим их закандалили. «Узнают, кто отковал вериги для кандальников, убьют», – опасался Тимур. Отец успокоил: «Не бойся, сынок, железо умеет молчать».
Лучи с решёток по-прежнему лили тусклый несогревающий свет.
Староверец Влас шепотил молитвы. Внимательно слушал их святой Георгий Победоносец. Счетовод Покровский продолжал дотошно искать запутанные ходы в годовом отчете. О своей правоте знал всё. О гнусном подлоге могла внести ясность кипа бухгалтерских бумаг. Они заперты в несгораемом сейфе. Бумаги сгораемы. Возможно, важные улики давно уничтожены, разлетелись пеплом по двору бревенчатой конторы. «Дали бы пять лет поражения в правах – тогда можно перебедовать… Будет время выиграть победу после поражения… Всех выведу на чистую водичку…»
О сыне, о Праске все думы Тимура. Взор простреливает сквозь барачные стены, долетает до захудалой деревеньки… Вот крошка Никодимка грудь сосит… Вот матушка гремит сепараторными дисками – готовится молоко в сливки перегонять… Не отобрали бы корову, кузницу… Подлец Фесько – холопских кровей… барские иметь не будет… Родича Ганьку – пьяницу и недавнего зэка – в надзиратели пристроил… По всем статьям выходит – батя в гражданскую за власть лживую воевал. Кривда верх взяла, зубы скалит…