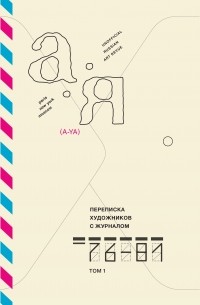Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Шелковский – Чуйкову, Сидорову, Есаяну, Герловиным, Сокову 01.78
Дорогие Иван, Алик, Серёжа, Римма, Валерий и Лёня! Здравствуйте!
<…> После Солженицына мышление начало понемногу меняться. До этого рта нельзя было раскрыть с критикой Союза, многие это говорят. Бедную студентку, вернувшуюся из Москвы, обвиняли в клевете и называли фашисткой только потому, что она утверждала, что вход в общежитие МГУ по пропускам. Вопреки очевидному, левые интеллектуалы хотели верить, что «там» всё хорошо и иначе быть не может. Сейчас меньше неизвестности, иллюзии рассеялись и все надежды перенесены на Китай – уж там-то точно нет неравенства (их очень задевает, что есть богатые и не они). Возможно, это вообще свойственно человеческой натуре: верить, что где-то уж наверняка должно быть всё прекрасно, что где-то существует земной рай, где люди не стареют и всегда хорошая погода. В русском языке это отразилось в пословице: хорошо там, где нас нет. Любопытный пример я сейчас вам приведу. Год назад я немного дружил с одним американцем, мы вместе ходили на курсы языка в Альянс Франсез. 23 года, толстый, добродушный, в розовых очках, типичный американец, с широкими жестами и громким голосом. Кто-то из родителей – одесские евреи. Писатель, опубликовал пьесу, несколько эссе. В то время работал над большим романом из жизни Иисуса Христа. Моя московская одежда к тому времени немного поизносилась, и я нашёл на solde (распродажа остатков серии) в половину цены пиджак из вельвета, серо-зелёного цвета фирмы Lee. На следующий день встретились с Сильвером на лестнице. Ага, пиджак новый – сказал он. Отвернул лацкан, высунул язык и брезгливо поморщился: Американский. Вот!.. Сказал он с гордостью, показывая на свой синий и тоже из вельвета, – польский. Я уже третий такой покупаю, всегда хорошего фасона и долго носятся. (Парень любопытный. Разговор был по-французски, но вообще-то он и по-русски немного знал и особенно всё, что касается мата. На родине свёл дружбу с поэтом Бродским и освоил все выражения. Употреблял их, не стесняясь, в классе и везде – всё равно никто не понимает, да и сам он, наверное, не понимал их толком. Встречаясь с молоденькой негритянкой из нашего класса, говорил ей громовым голосом: ты хорошая п…, чему та приветливо улыбалась. Было в нём много ребячливого. Очень стеснялся, что во время праздников ему нельзя есть ни хлеба, ни печенья. Носил с собой повсюду коробку мацы. Пробовали мы с ним обмениваться уроками английского и русского, но немного.) <…>
Постоянный ваш вопрос: какие отношения между русскими художниками? Скверные, хуже и не придумаешь. По французскому выражению – корзина с крабами. Откуда такая жажда власти, первенства, стремление подмять всех под себя? Что это – советское или татаро-русское? Где же элементарная интеллигентность, и в традиционном русском, и в нашем теперешнем московском понятии? Никаких целей, кроме узко эгоистических. Отсюда кланы, интриги, подслеживание, взаимовредительство. Лейтмотив всех разговоров Нусберга со мной после знакомства в Вене – ниспровержение Шемякина. Разумеется, на трон предполагал поместить себя. Главные военные операции начались за несколько недель до биеннале, во время её подготовки в Венеции, куда Нусберг прибыл тайком от остальных. Результатом маневров было то, что ни одна работа Шемякина на выставке так и не появилась, а весь центр зала был увешен довольно убогими старыми гуашами с обтрёпанными краями. Без рам и паспарту, они были прилеплены к стене простым скотчем и просторность развески доходила до степени разжиженности. Великий корифей, бывший генеральный художественный директор русской выставки в Пале де Конгре в Париже прибыл вскоре на биеннале в сопровождении своей свиты и не считал нужным сдерживать свой справедливый гнев, обозвав публично всех устроителей говном и ничего не понимающими в русском неофициальном искусстве. После чего уехал и организовал в одной из галерей выставку отверженных (здесь шутят «диссиденты от диссидентов»), на которую где-то набрал такой махровый сюр, что уж дальше и ехать некуда. Почувствовав свою силу и значительное влияние на итальянское искусствоведение, авангардист Нусберг заблокировал для Шемякина и две другие выставки. Не помогло даже вступление в бой такой тяжёлой артиллерии, как Глезер (коллекционер и директор Русского музея современного искусства в изгнании), с его серией энергичных протестов. Один из них, что «работа Кабакова и др. будут даны на выставку только в том случае, если на ней будут выставлены следующие авторы…», вызвал возмущение итальянцев: «А чего он нам указывает? Мы делаем выставку». Противно всё это писать. Это так, а выглядит как какие-то сплетни. А сплетен здесь и так много всякого сорта. Той откровенности, которая из него изливалась в Вене, Нусберг очевидно теперь не может простить себе, а заодно и мне. После нескольких случайных встреч в Париже он безо всяких видимых причин перестал со мной здороваться, на биеннале демонстративно отворачивался. Смешнее всего было в Лоди во время обеда, когда он, завладев бутылками, разливал всем вино, мой стакан оставляя пустым (перед этим мы ехали в одном поезде, но в разных вагонах). Вот так. Пустил слух, что я стукач. Когда Глезер мне сказал об этом, я даже не нашёлся, что ответить. На следующий день вспомнил, что то же самое мне говорил про Глезера ещё в Москве Лёня Талочкин. И даже приводил доказательства. Но о нём самом я слышал то же и т. д., господи, как скучно всё это.
Наверное, весь этот сюжет занимает в письме непропорционально большое место. Потому что в жизни я вижусь с кем-либо из русских (теперешних советских) крайне редко, раз в несколько месяцев, да и то случайно. Рабина, хоть он и в Париже, я ещё ни разу не видел, а когда попал однажды к Целкову, то тот весь вечер эгоцентрично говорил о своей будущей карьере. Ни о чём другом не было сказано ни слова, не проявил никакого интереса к дальнейшему знакомству, даже не записал телефон, хотя бы так, на всякий случай.
Возобновил знакомство с Володей Слепяном, который в Париже живёт уже 20 лет. Очевидно, он один из первых эмигрантов третьей волны, если не самый первый. Нас сближает наша прошлая дружба и одинаковая судьба наших родителей. Уезжал он как художник, сейчас оставил живопись и пишет стихи, пьесы уже по-французски. Время от времени приглашает меня провести вечер в кафе Клозери де Лила [La Closerie des Lilas] известном тем, что там всегда сиживал Хемингуэй и многие другие. К столикам привинчены медные дощечки: Аполлинер, Ленин и т. д. Сейчас там собираются литераторы новой генерации. Парижская жизнь очень засасывающая, если ей поддаться, то можно всю жизнь так провести, ничего не делая, может, лишь слегка зарабатывая, по разным кафе, мастерским, компаниям и т. п. Знакомятся здесь очень легко, сразу начинают на ты, нет никакой кастовости, компании большей частью интернациональные. Вспомнил ещё, что как-то были в гостях с Лидой Мастерковой. Она за этот вечер изругала всех здешних русских знакомых и незнакомых, как Собакевич у Гоголя («один губернатор хороший человек, да и тот, по правде говоря, настоящая свинья»). Сама потом смеялась. Неизвестный сказал: «у вас там в Париже клоповник». И он прав, но и в Нью-Йорке, наверное, не лучше. Кажется, нет более недружной нации, чем русские (бывшие советские).
Теперь о вопросе количества работ. Здесь каждый преуспевающий художник – это не только качество (и даже не столько), сколько количество. Хорошо это или плохо – это другой вопрос, но иначе здесь просто нельзя, если ты хочешь вести жизнь профессионального художника. (Кто-то, ещё в Москве, говорил про Пикассо: весь ушёл в количество. У русских, особенно полупризнанных, полуподпольных, как Филонов, Фаворский, Семёнов-Амурский, была другая страсть – работать годами, никому не показываясь. Выложить всю свою философию, всё своё мировоззрение на пяти квадратных сантиметрах поверхности и оставить потомству: пусть любуются, поминают.) Любой здешний успех художника (если только он не посмертный, как у Моранди), в том числе успех коммерческий, связан всегда с большим количеством, с устройством одновременно выставок по всем странам, по разным галереям. Из русских художников это хорошо усвоили Шемякин, Рабин. Шемякин тиражирует свои гравюры, его жена их раскрашивает, таким образом, он может снабжать одновременно несколько галерей в разных городах. Рабин был настолько продуктивен, что в каждом крупном городе в Европе, наверное, есть с десяток его холстов. Во всяком случае, те, что выставляются в Лоди, все взяты из Милана (из частных коллекций). В то же время я, кажется, писал вам про это, перед началом биеннале мне задали вопрос: у кого в Европе можно получить работы Чуйкова и Сокова? Западный художник работает как фабрика. Энди Уорхол регулярно выбрасывает на рынок свои серии увеличенных и подкрашенных фотографий. Кажется, он и делает это уже не своими руками. Говорят, что уже давно и Вазарели и Хартунг и др. ставят только подписи. Это уже как крайний пример. Если работа не продаётся, то художнику не на что жить, нечем оплачивать мастерскую, автомобиль, виллу и пр. пр. Если же работа продаётся – то она исчезает и для автора и для других. В музей она попадёт через десятилетия или столетия. Пока же она оседает где-нибудь в частной коллекции или запаснике маршана. Володя Слепян, когда приехал сюда, продал много своих холстов. Сам или через кого-то. Сейчас он не знает, где они, что с ними, каким образом их можно было бы увидеть ему самому. Какая бы удачная идея ни пришла художнику – на неё не проживёшь, нужны физически существующие вещи в объёме, в сантиметрах. Если сейчас покупают Ван Гога, то покупают Ван Гога. Сам же Ван Гог продавал (вернее стремился продавать) именно пейзажи, натюрморты, портреты, т. е. физически существующие живописные объекты. <…>
Среди эмигрантских разговоров, большей частью среди художников, можно выявить две противоположные точки зрения. Одни считают, что они призваны и здесь развивать русскую неофициальную культуру, у которой есть неоспоримые моральные, духовные преимущества над культурой западной, разлагающейся (такой точки зрения придерживается Глезер и др.). Вторые говорят, что на Западе нужно быть западным художником, надо включиться в здешнюю художественную жизнь и постараться забыть про всё, что было с нами там. Первые ведут себя соответственно: не учат язык, общаются в своей среде; вторые, конечно, наоборот. Сам я не разделяю полностью ни первую, ни вторую точки зрения. Я не стремлюсь быть всё время в русской среде, да это и не так интересно, с другой стороны, я не считаю, что я должен забыть, что я русский, всю свою прошлую жизнь, поставить крест на прошлом. Самые интересные книги для меня – русские книги. И даже та толстая книга по-французски, которую я сейчас читаю, – это перевод с английского «Русские» [The Russians, 1975] Хедрика Смита. Интересных же книг здесь столько, что читать не перечитать. <…>
Римма, Валерий, ваши работы с успехом выставляются в Лоди и Беллинзоне (там я не был). Пишите, как живёте, получили ли мою открытку от 22-1-78 с башней Монпарнас? <…>
Алик! Мне очень хотелось бы теперь наладить регулярную переписку и чтобы наши письма в обе стороны шли быстрее, а не 2-3 месяца. Может, это можно будет сделать с помощью П. [Поль], я очень надеюсь. Здесь она была единственным человеком, которому я мог доверять полностью и во всём. <…>
Игорь