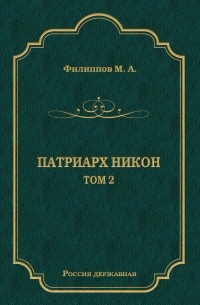Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XV. Суд нечестивых
Предсказание Никона сбылось. К зиме получились в Москве добрые вести: Юрий Хмельницкий нападением своим на крымские улусы заставил хана отступить восвояси, оставив только Выговскому пятнадцать тысяч человек, но он при этом выжег и истребил на пути своем несколько городов, местечек и сел. В Малороссии же господствовали междоусобицы, и казаки резались с казаками: правая с левой стороной. Правая, во главе с Беспалым и Юрием Хмельницким, была на стороне царя; а левая с Выговским против него.
Борьба шла ожесточенная и кровавая, и брат на брата восстал; поляки же могли прислать Выговскому только полторы тысячи человек с коронным обозным Андреем Потоцким.
О том, в каком положении была тогда эта прекрасная страна, рисует донесение королю Потоцкого.
«Не извольте, – писал он, – ваша королевская милость, ожидать для себя ничего доброго от здешнего края. Все здешние жители (то есть западной части Украины) скоро будут московскими, ибо перетянет их Заднепровье, и они того и хотят и только ищут случая, чтобы благовиднее достигнуть желаемого. Одно местечко воюет против другого, сын грабит отца, отец сына. Страшное представляется столпотворение. Благоразумнейшие из старшин казацких молят Бога, чтоб кто-нибудь: или ваша королевская милость, или царь, – взял их в крепкие руки и не допускал грубую чернь до такого своеволия».
Потоцкий говорил правду: едва гетман Выговский, после уничтожения нашей кавалерии, удалился в Чигирин, как полковник его Цецура успел склонить на сторону царя еще четырех полковников.
Потоцкий, видя критическое положение Выговского, пригласил его к себе в лагерь под Белую Церковь.
Казаки бросили тогда Выговского и собрались к Юрию Хмельницкому в количестве более десяти тысяч.
Татары ушли тогда из Чигирина восвояси, бросив Выговского на произвол судьбы.
К 20 сентября Хмельницкий, соединившись с полковниками Чигиринским, Черкасским и Уманьским, направился к Белой Церкви, а Потоцкий и Выговский отступили к Хвостову.
Казаки послали к Потоцкому просьбу, чтобы он уговорил Выговского сложить булаву на Раде.
Потоцкий встретил посольство бранью и выгнал от себя.
Тогда казаки пустились на хитрость: они послали двух полковников и брата Выговского к нему, Выговскому, уверить его, что войско останется верным Польше, лишь бы он возвратил булаву и бунчук.
Потоцкий на это согласился, и полковники со значками гетманского достоинства возвратились к Хмельницкому и, когда регалии были внесены в Раду, они тотчас вручили их Юрию, с пожеланием счастливого гетманства.
Но еще до этого князь Трубецкой успел пройти в Переяславль, и всюду его встречали со святыми иконами и пушечной пальбой.
Заняв город, он послал к Юрию Хмельницкому грамоту, чтобы тот явился к нему.
Недели две они переписывались, и наконец – под условием, что заложником должен быть Бутурлин, – Юрий Хмельницкий решился переехать в Переяславль.
С гетманом поехали обозный Носач, судья Кравченко, есаул Ковалевский да полковники Одинец, Лизогуб, Петренко, Дорошенко и Серко; кроме того, из каждого полка сотники и казаки.
За городом гетмана встретили две сотни жильцов да три роты рейтаров; по улицам стояли стрельцы и солдаты с оружием, барабанами и знаменами.
На другой день князь принял торжественно малороссов и объявил им, что он собирает у себя Раду для выбора гетмана.
Семнадцатого октября съехались все ратные люди Малороссии, и в поле открыто было заседание.
Предупредительный Трубецкой окружил все это место войском под начальством князя Петра Алексеевича Долгорукого: у него имелись сомнительные статьи о воеводствах, которые могли бы вызвать бурю в Раде.
Уж как это случилось, неведомо, а все статьи Трубецкого, изменявшие почти весь строй Малороссии, были приняты и затем в книгу записаны, и там расписались гетман и старшины, и за отсутствующих тоже приложился гетман.
По окончании этой оригинальной Рады гетман, старшины и казаки отправились в соборную церковь и принесли присягу; отсюда при громе пушек пошли они обедать к боярину, который после государевой чаши велел стрелять из всего наряда: то есть всем войскам.
Двадцать шестого октября Трубецкой с Федором Федоровичем Куракиным и Григорием Григорьевичем Ромодановским, своими сподвижниками, выехали из Переяславля в Москву, везя с собой как трофеи четырех братьев Выговского; из них Данило, шурин Хмельницкого, по дороге умер, а остальные привезены в Москву и сосланы в Сибирь.
Триумвират этот встречен с большим почетом в Москве и осыпан милостями, и все потому лишь, что все выставили как дело их рук, между тем как здесь действовала рознь, междоусобица, ненависть к полякам и панству.
Самые статьи, которыми тогда восхищались бояре, были преждевременны и вызвали впоследствии потоки крови с обеих сторон.
О безвинной же гибели под Сосновкой десятков тысяч людей, оплакиваемых во всех концах государства, и о потере всей почти нашей конницы, так что целый век после того мы не могли создать подобную, никто и не думал и не вспоминал…
Да и неудивительно: бояре поняли тогда это дело как окончательное завоевание Малороссии, а жажда грабежа и наживы была в них так сильна, что ради этого они забыли сосновское побоище.
Здесь сказалась резко перемена духа времени: в предшествовавшее царствование за сдачу неприятелю никуда не годных орудий знаменитый патриот и герой Шеин потерял голову; а теперь губитель цвета русской молодежи и воинства возвеличен за дело, которое принадлежит более Никону, чем ему.
Между тем как это совершалось, Никон переехал в Крестовый монастырь и устроился там если не хорошо, то, по крайней мере, покойно.
Два года тревожной жизни и забот о Ново-Иерусалимском монастыре лишили его многих сил. В Крестовой же обители, которую он выстроил, когда еще был в силе и могуществе и которая была материально обеспечена, он не чувствовал нужды. Главнее же всего то, что он здесь не знал расчетов с рабочими и не слышал жалоб иноков на недостаток.
Вел патриарх жизнь уединенную, удалялся от всяких бесед с окружающими его монахами и проводил время или в чтении, или в молитве.
Место это действительно было только для молитвы и уединения. От Москвы оно отстоит на многие сотни верст, так как Крестовый монастырь расположен на острове на Онеге; местность очень живописная, но дикая и суровая, в особенности зимою. Выстроен монастырь Никоном в воспоминание чудесного своего избавления во время бегства его из Соловецкой обители. Монастырь этот, собственно, назван им Товрас, или Ставрос, по-русски же перевели это на «крест». В обитель он внес крест из трисоставного дерева, во всем подобный Животворящему Кресту, обложив его серебром и золотом со множеством частей из мощей русских и греческих.
В этой-то тихой обители Никон вел жизнь отшельника, но и это поставили ему в вину: зачем-де так удалился далеко от Москвы?..
Что делалось в монастыре, доносилось в Москву, и там ликовали: значит, усмирили строптивого, и нужно-де нанести ему последний, решительный удар, благо возвратились сюда да еще с большой силой враги Никона: князь Трубецкой да князь Ромодановский.
Подкрепленные ими, Хитрово и Матвеев уговорили царя собрать собор русских святителей – не для суда над патриархом, а собственно решить, что делать без патриарха.
Об этом боярин Зюзин, друг Никона, дал ему тотчас знать в Крестовый монастырь, и тот ответил в таком смысле, что испорченность нравов только и вызывает непочитание архиерейства, причем он сравнивал свое удаление с удалением патриарха Иова, причинившим в свое время много зла.
Ясно было, что Никон хотя и не был ни с кем в сношениях, но знал, что на его стороне правда.
В Золотой палате 16 февраля было открыто первое заседание собора.
Сверх митрополита Питирима, блюстителя патриаршего престола, были еще митрополиты: Макарий, пострадавший некогда во Пскове, а теперь новгородский митрополит; Лаврентий Казанский; архиерей Иоасаф Тверской, впоследствии избранный на место Никона, и множество других архиереев и архимандритов.
Государь объявил, что патриарх Никон оставил кафедру, и поэтому он предложил им постановить, что делать.
Митрополит Макарий отговорился незнанием дела, а Лаврентий заявил, что Никона следует пригласить на собор для дачи объяснений.
На другой день в Крестовой патриаршей палате собрался собор.
В заседании этом докладывал боярин Петр Михайлович Салтыков сказки, снятые со свидетелей. Собор привел к присяге светских, а духовных допрашивал по евангельской заповеди. Вопрос был поставлен: как отказывался Никон от патриаршества – с клятвой или без нее? Митрополит Питирим и Трубецкой подтверждали прежние свои показания, остальные отвергли их, так как они не слышали клятвы.
Собор постановил: как дознано, Никон оставил патриаршеский престол своею волею, и как великий государь укажет?..
Салтыков возвратился от царя с ответом: чтобы составили и доложили собору выписку из соборных правил.
В числе составителей выписок был и отец Павел.
Десять дней спустя доложена была выписка эта собору; и он не пришел ни к какому заключению. Это вызвало посылку стольника Пушкина к Никону.
Пушкин потребовал от него письменного разрешения на избрание нового патриарха, но Никон ответил:
– Патриарха поставить без меня не благословляю… Кому его без меня ставить и митру возложить? Митру дали мне вселенские патриархи, митры митрополиту на патриарха положить невозможно, да и посох с патриархова места кому снять и новому патриарху дать? Я жив, и благодать Святого Духа со мною; оставил я престол, но архиерейства не оставлял. Великому государю известно, что и патриарший сан, и омофор взял я с собою, а то у меня отложено давно, что в Москве на патриаршестве не быть.
Далее он продолжал:
– Если же великий государь позволит мне быть в Москве, то я новоизбранного патриарха поставлю и, приняв от государя милостивое прощение, простясь с архиереями и подав всем благословение, пойду в монастырь. А которые монастыри я строил, тех бы великий государь отбирать у меня не велел да указал бы от соборной церкви давать мне часть, чем мне быть сыту.
Ответ был вполне удовлетворителен: по примеру тому, как это делалось в восточной церкви, он подавал в отставку от кафедры и с титулом патриарха хотел удалиться.
Но боярство восстало, и 20 марта опять собрались во дворец духовные власти и бояре в присутствии царя, и собор определил:
«Когда епископ отречется от епископии без благословной вины, то по прошествии шести месяцев поставить другого епископа». Кроме того, собор определил, что «Никон должен быть чужд архиерейства, и чести, и священства».
Три раза бояре подносили царю это решение, но он не утверждал его и наконец приказал пригласить на собор трех греческих святителей, бывших в Москве, и те дали отзыв: «Никто из предшествовавших патриархов не исполнял так строго чин восточной церкви, как он; если же Никон в своем отречении и погрешил как человек, то в догматах православной веры он был благочестивейший и правый; в апостольских же и отеческих преданиях восточной церкви был большой ревнитель».
– Возвращение же возможно, если только он нужен и царь соизволит, – закончили они.
Но собор этот едва ли мог быть признан действительным в отношении Никона: по обычаю церкви восточной, экзархи и патриархи должны были быть судимы собором, на котором присутствовали бы все митрополиты подчиненной им области и ближайшие экзархи и патриархи. Притом, по каноническим правилам, требовалось единогласие приговора. Но мы видим, что на соборе не были все митрополиты, входившие тогда в московское патриаршество, как, например, не было киевского; притом протест греческих митрополитов был достаточен, чтобы остановить действие приговора. Но Епифанию Славенецкому приказано было составить приговор.
И поручение это, и личное расположение Епифания к Никону вызвали в почтенном этом старце неудовольствие, но нечего было делать: приказание собора он обязан был исполнить.
Вышел он из Успенского собора, где было собрание это, и собирался сесть в свою повозочку, чтобы ехать в Андреевский свой монастырь, как услышал голос Зюзина:
– Отец Епифаний, куда торопишься?.. Чай, сильно устал? Ты бы лучше ко мне пожаловал, хлеба-соли откушал и переночевал бы.
– Благодарствую, боярин, с государевым делом.
– Оно-то так… да ведь вечер на дворе… а ты устамши… Завтра до света уедешь.
Приглашение было радушное и соблазнительное, притом боярин считался из друзей Никона, и хотелось Епифанию, как говорится, отвести душу.
Объявил свое согласие Епифаний, и оба, усевшись на повозку его, тронулись в путь.
– Да ты ж, боярин, откелева? – обратился к нему Епифаний.
– Да вот сновал все вокруг да около Успения… а дьячок мне передавал, что там у вас баяли, – произнес он, понизив голос.
– Чудеса творились, – вздохнул Епифаний. – На собор больше бояр пустили, чем святителей, и как кто заикнется о Никоне, закричат… заплюют… аль застенком грозят… Да и сам-то царь уж очень принижен и рта не может раскрыть.
В такой беседе они доехали до хором Зюзина.
Боярин ввел святителя в свой дом и направился через обширные палаты в уединенную комнату.
– Здесь, – сказал он, – мы повечеряем, отец Епифаний… Потом тебе сделают здесь постель, тебе и будет в этой келье спокойно.
Прислуга тотчас накрыла на стол, ужин подан, и оба поели с аппетитом, причем выпито было тоже немало.
После ужина прислуга тотчас убрала со стола, приготовила гостю постель и ушла.
Хозяин тоже простился с ним и вышел.
Оставшись один, Епифаний стал обдумывать дело Никона и свое положение.
– Ну, – говорит он сам с собою, – решили бы они избрать нового патриарха, на это есть согласие и Никона, но лишить его сана, чести и священства – это жестоко и неправильно… Вот когда б с Никоном повидаться?.. Так иное дело – он бы все выяснил.
Не успел он это подумать, как кто-то постучался в дверях.
– Гряди во имя Господне, – сказал архимандрит.
Тихо отворяется дверь, и на пороге стоит сам Никон в одежде крестьянской.
– Святейший патриарх!., это ты?., откуда? как?..
– Вчера еще ночью я приехал сюда к другу моему Зюзину… Хотел знать, что митрополиты греческие скажут и что собор нечестивых.
– Митрополиты поставили тебя выше всех наших патриархов… ты, по их словам, столп и утверждение истины и грековосточной церкви.
– А нечестивые?
– Те представили выписку греческую из шестнадцатого правила первого и второго Вселенских соборов, в которой сказано: «Безумно убо есть епископства отрещися, держати же священство»… ну и порешили все: лишить тебя архиерейства и священства…
– Договаривай: и чести.
– И чести…
– И ты так решил?
– От правил Святых Отцов не отступаю – ты знаешь, святейший.
– Как не отступаешь?.. Отступил, как еретик, как фарисей, как нечестивец на суде…
– Я ни единой буквы не прибавлю… Вот и выписка из правила…
– И кто сочинил его?
– Иеродиакон грек Мелетий, а толковником был отец Павел, чудовский игумен.
– Обошли они и собор и тебя, – расхохотался Никон. – Да ведь такого правила нет… да и нашли же кому доверить? Мелетий известен как искусный подделыватель подписей. Второй… тюремной… да оба мои враги… Вот со мною и греческие правила, возьми и читай.
Никон бросил на стол толстую книгу.
Епифаний отыскал требуемое место и удивился: в выписке был явный подлог.
– То-то, – воскликнул старик, – когда они читали выписку, на меня напало сомнение, так как не помнил я такого правила; притом же много ведь было случаев, когда святители отрекались от кафедры… и чтобы за это их лишали архиерейства, священства и чести, я не помнил.
– Притом было ли у вас единогласие? Коли не было, так и решение ваше не решение.
– Единогласия не было, да и решения не будет. Я напишу царю и откажусь… Пущай другой пишет.
– Не делай этого – себя погубишь, а пущай они пишут, что им угодно… Да без меня по правилам соборным и суда не могло быть… Заочно не могли они осудить: а их нечестивый суд и я не признаю, да и митрополит Киевский и вселенские патриархи.
– Нет, святейший, ты укорял меня, что я отступник от правил… но отступник я не как фарисей, не как еретик, не как нечестивец, а по старости, – запамятовал, а воры обошли меня, дурака. Теперь ты наставил меня, и я докажу, что я от правил Святых Отцов, не отступлю и готов за них и истязание и смерть принять.
Он подошел к столу, просил святейшего сесть и написал письмо к царю:
«Греки на соборе прочитали из своей греческой книги: „Безумно убо есть епископства отрещися, держати же священство”… и сказали, что это 16 правило первого и второго Вселенских соборов. Я думал, что это правда, не дерзнул прекословить и дал свое согласие на низвержение Никона, бывшего патриарха; но потом я стал искать и не нашел в правилах этого изречения, вследствие чего беру назад свое согласие на низвержение Никона и каюсь. Ваше царское величество приказали мне составить соборное определение. Я готов это сделать относительно избрания и постановления нового патриарха, потому что это праведно, благополезно и правильно; о низвержении же Никона не дерзаю писать, потому что не нашел такого правила, которое бы низвергало архиерея, оставившего свой престол, но архиерейства не отрекшегося».
Когда Епифаний прочитал вслух это письмо, Никон обнял и поцеловал его.
– Потомство, – сказал он, – не забудет твоего подвига, и занесется он в летописи и в деяния подвижников правды… Но боярство восстанет… оно загрызет, заест тебя.
– Пущай, и так уж Господь Бог скоро призовет меня, а коли я от пытки умру, так помяни меня, святейший патриарх, в своих молитвах.
– По гроб твой богомолец… Еду сейчас обратно в свой Крестовый.
– Благослови, владыко! – поклонился ему в ноги Епифаний.
Никон благословил его, обнял, расцеловал и со слезами на глазах вышел.
Архимандрит бросился на колени и горячо благодарил Богородицу, что она не допустила его сделать несправедливости и подлости.
Не раздеваясь, лег он и заснул сном праведника.
На другой день Зюзин отнес письмо его к царю.
Прочитав его, Алексей Михайлович и обрадовался и рассердился: обрадовался он, что можно приговор собора не подписать; рассердился – за подлог.
Велел он крепко и доподлинно сыскать виновных в подлоге и сочинении правила, но и святители, и бояре затерли дело, и вышло так, что Епифанию все это за старостью, вероятно, померещилось.
Царю, впрочем, было в это время не до собора. Князья Хованский и Долгорукий были в Литве разбиты, и мы были почти изгнаны оттуда; Шереметьев выступил с Юрием Хмельницким в поход в Галицию, но на пути, несмотря на свой героизм, был разбит поляками и татарами и попался последним в плен. Юрий Хмельницкий изменил нам и перешел на сторону врагов.
В Москве снова так было струсили, что царь собрался выехать в Ярославль.
«Уж не от того ли, – приходило нередко в голову Алексею Михайловичу, – нам-де не стало везти, от того, что нет благословения патриарха Никона? После его удаления счастье явно отвернулось от нас».